В непростых геополитических условиях одним из главных союзников России становится Северная Корея. Бойцы Пхеньяна участвуют в СВО, секретарь совбеза России Сергей Шойгу постоянно летает в КНДР с посланиями президента РФ Владимира Путина. Крепнут и связи КНДР с Татарстаном. На этой неделе корейская делегация приезжала в Новошешминский район РТ — «строить мост дружбы и сотрудничества» и навестить «большого друга», заводчика орловских рысаков Николая Скокова. Корреспондент «БИЗНЕС Online» побывала в нескольких сотнях метров от границы с Северной Кореей и посмотрела на нее глазами Запада и Юга.

-
Южная Корея предлагает иностранцам много туристических аттракционов: пагоды и небоскребы, бродвейское шоу и местный Диснейленд, океанариум и… Северную Корею на блюдечке: 38-я параллель, 75 лет назад разрезавшая полуостров на две части, вполне успешно коммерциализируется Сеулом как популярная достопримечательность. На карте, вычерченной на смотровой площадке у моста неподалеку от демилитаризованной зоны (ДМЗ), эта территория символично прикрыта осью восток-запад. Мирное соглашение так и не было подписано, так что технически обе Кореи до сих пор в состоянии войны.

-
Подвесной мост с романтичным названием «Млечный путь», почти шуховская смотровая башня, живописнейшая река, тишина и умиротворение — это сегодняшние окрестности ДМЗ. Но не так уж давно в этих местах шли кровопролитные бои, а река Имджин, один из притоков которой на фото, так часто выносила трупы погибших, что ее назвали «рекой мертвых».

-
Говорят, что местные зоозащитники очень боятся объединения двух Корей, чтобы не нарушить экосистему демилитаризованной зоны, где в отсутствие антропогенного фактора успешно самовосстановились флора и фауна. Прямо по Владимиру Высоцкому: «А на нейтральной полосе — цветы необычайной красоты». Так что международному (!) центру охраны журавлей возле ДМЗ даже почти не удивляешься.

-
Кульминация тура — один из подземных тоннелей, прокопанных из одной Кореи в другую (направление копки меняется в соответствии с мировоззрением повествователя). Конкретно это второй тоннель, по официальной версии Сеула, вырытый армией КНДР для вторжения в Южную Корею. Его обнаружили в 1975 году: сдал пойманный северокорейский перебежчик. Ну как сдал — якобы он так нервничал, что год (!) не мог вспомнить его расположение. Тоннель в итоге нашли. Для этого пришлось хорошенько прозондировать почву: изнутри видно, что он весь истыкан трубами. Еще на стенах следы динамита: прокопать подземный ход на глубине от 50 до 160 м длиной 3,5 км было непросто. Тоннель довольно широкий, считается, что за час по нему могли пройти 30 тыс. солдат. Изнеженным и, как правило, более высоким европейским туристам сложнее: каски то и дело задевали потолок.

-
Центральная часть замурована, но внутрь можно пройти довольно далеко: так, что до границы остаются считанные сотни метров. Самостоятельное посещение ДМЗ невозможно, только в составе организованных групп. После выхода последнего туриста площадь пустеет, а вход перекрывается. Маршрут и время посещения меняются в зависимости от обстановки на границе.

-
За кадром военные (фотографировать нельзя, здороваться можно), колючая проволока и минные поля. Как говорят гиды, со времен войны на территории ДМЗ осталось 2 млн мин. На их обезвреживание потребуется еще лет 100. Сегодня стороны пользуются психологическим оружием: КНДР транслирует пропаганду и разные неидентифицируемые звуки, а южане врубают в ответ запрещенный на другой стороне кей-поп. 12 июня обе стороны это делать прекратили в надежде на улучшение отношений.

-
Смотровая площадка в сторону Северной Кореи «Чхорвон». «Вот наш наблюдательный пункт под нашим флагом, его фотографировать нельзя, дальше на холме наблюдательный пункт Северной Кореи — его можно», — улыбается гид.

-
«Если повезет, вы увидите маленьких-маленьких муравьев. Это северокорейские люди. Маленькие-маленькие. А если очень повезет, вы сможете увидеть северокорейскую машину! Это бывает очень-очень редко, я сама только один раз видела, у них не так много машин», — вроде юморит гид. Довольно-таки гадкое ощущение — будто ты в человеческом зоопарке.
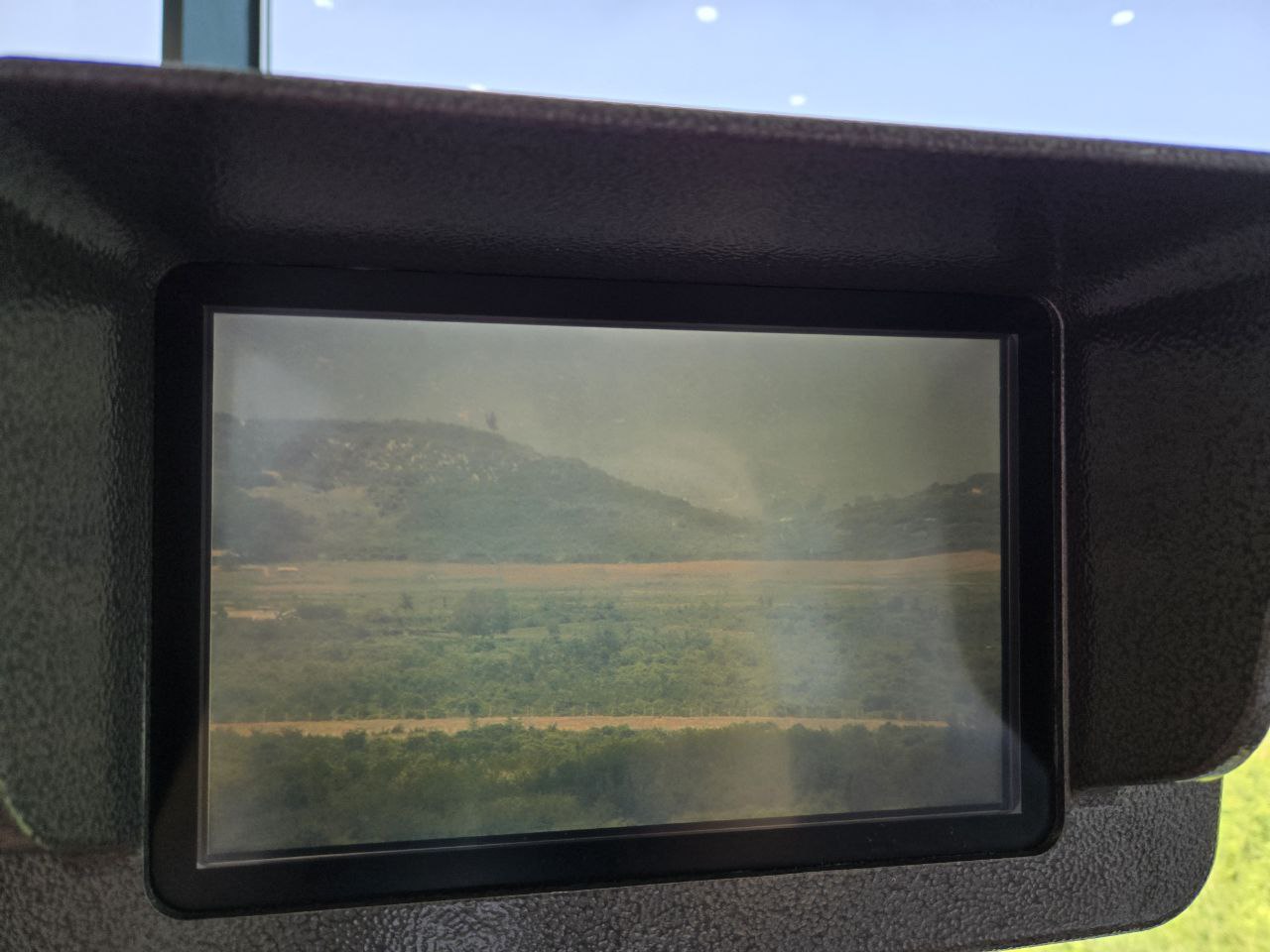
-
Через оптику становится видной желтая полоса — граница между двумя Кореями. Дальше за ней действительно дома, действительно люди. Это образцово-показательный «пропагандистский» поселок: на Севере прекрасно. С южнокорейской стороны, кстати, такой же.

-
Магазин «сувениров» из Северной Кореи вроде денежных знаков и водки. Генезис последней остался неуточненным, а северокорейские воны продают как уникальный артефакт: мол, деньги в обращении вывозить из страны нельзя, потому что на них лицо Ким Чен Ына, складывать пополам — тоже. «А вообще Ким Чен Ын очень старается быть похожим на своего дедушку Ким Ир Сена, он даже пластическую операцию сделал, чтобы быть как он. Но ему следовало делать ее в Южной Корее, у нас лучше хирурги», — продолжает стебаться гид.

-
Военные артефакты превратились в туристические.

-
«Последний поезд» (Last Train) — то, что от него осталось. Гид говорит, что 31 декабря 1950 года состав с гуманитарным грузом переехал границу с Северной Кореей, но был остановлен и уничтожен.

-
А это единственное в Южной Корее северокорейское здание.

-
Камчхон — один из районов Пусана, города, куда на время войны перенесли столицу страны — Сеул-то был захвачен через три дня. Если в 1945 году население Пусана было 300 тыс. человек, то к концу войны, в 1953-м, перевалило за миллион. Беженцев размещали во всех общественных зданиях, церквях, в школах и на промпредприятиях. Они жили в палатках, землянках, строили дома из фанеры и брусьев.

-
В 2009 году власти Пусана вместе с жителями и местными художниками придумали элегантный ход — превратить беднейшие трущобы в «культурную деревню». Маленькие дома, стоящие вплотную друг к другу, выкрасили в яркие цвета (обязательно отличающиеся от соседских), украсили росписями и скульптурами, организовали художественные мастерские и кофейни. И получилась туристическая достопримечательность.

-
Это, например, улица.

-
Церковь. Да, прямо в сувенирном магазине.

-
А это символ Пусана, беженцев и… северокорейцев в целом. Трогательный Маленький принц, навсегда улетевший со своей планеты, в сознании местных жителей олицетворяет северян, потерявших родину.

-
Говорят, что на старейшем рынке Сеула основная часть продавцов тоже потомки беженцев из Северной Кореи.

-
Но за всем этим ностальгически идиллическим флером стоит мощная военная компонента. Граница двух Корей — одна из самых милитаризованных в мире. О вооружении КНДР с громкими баллистическими испытаниями и ядерными кнопками даже говорить не приходится, а сейчас у страны благодаря СВО будет еще и уникальный для современной Азии опыт реальных боевых действий. Территория Южной Кореи — многочисленные американские военные базы. Служба в армии здесь обязательна, уклонистов ждет самая страшная кара — социальное порицание, сложности с устройством на работу и т. д. Служат и айдолы — местные поп-кумиры, приостанавливая творческую деятельность и превращая свой призыв и дембель в событие для фанатов. Из плюсов — молодой человек может сам выбрать, когда и куда ему пойти служить, в любое время до 35 лет. Срок службы — 18–21 месяц, в зависимости от рода войск.

-
На каждой станции метро Сеула шкафы с противогазами, сухпайком и водой (инструкции продублированы на английском). Это воспринимается местными как должное, жизнь между войной и миром идет своим чередом.

-
«Я никогда не задумывалась, хотят ли корейцы воссоединения, пока не стала водить туристов и они меня не начали ежедневно об этом спрашивать, — признает гид, кореянка Джои. — Тогда я поговорила с друзьями, с учеными и поняла, что не хотят. По двум причинам: во-первых, кто за это будет платить? У нас же сразу взлетят налоги! А второе — у нас и так очень сильная конкуренция за рабочие места, а после объединения она станет невозможной». Экономика, конечно, сильный аргумент, но идеологический фактор еще мощнее. Корейский полуостров — это мастер-класс, как за каких-то полвека одну нацию превратить в двух врагов, лишенных точек соприкосновения. Похоже, эксперимент оказался вполне тиражируемым.







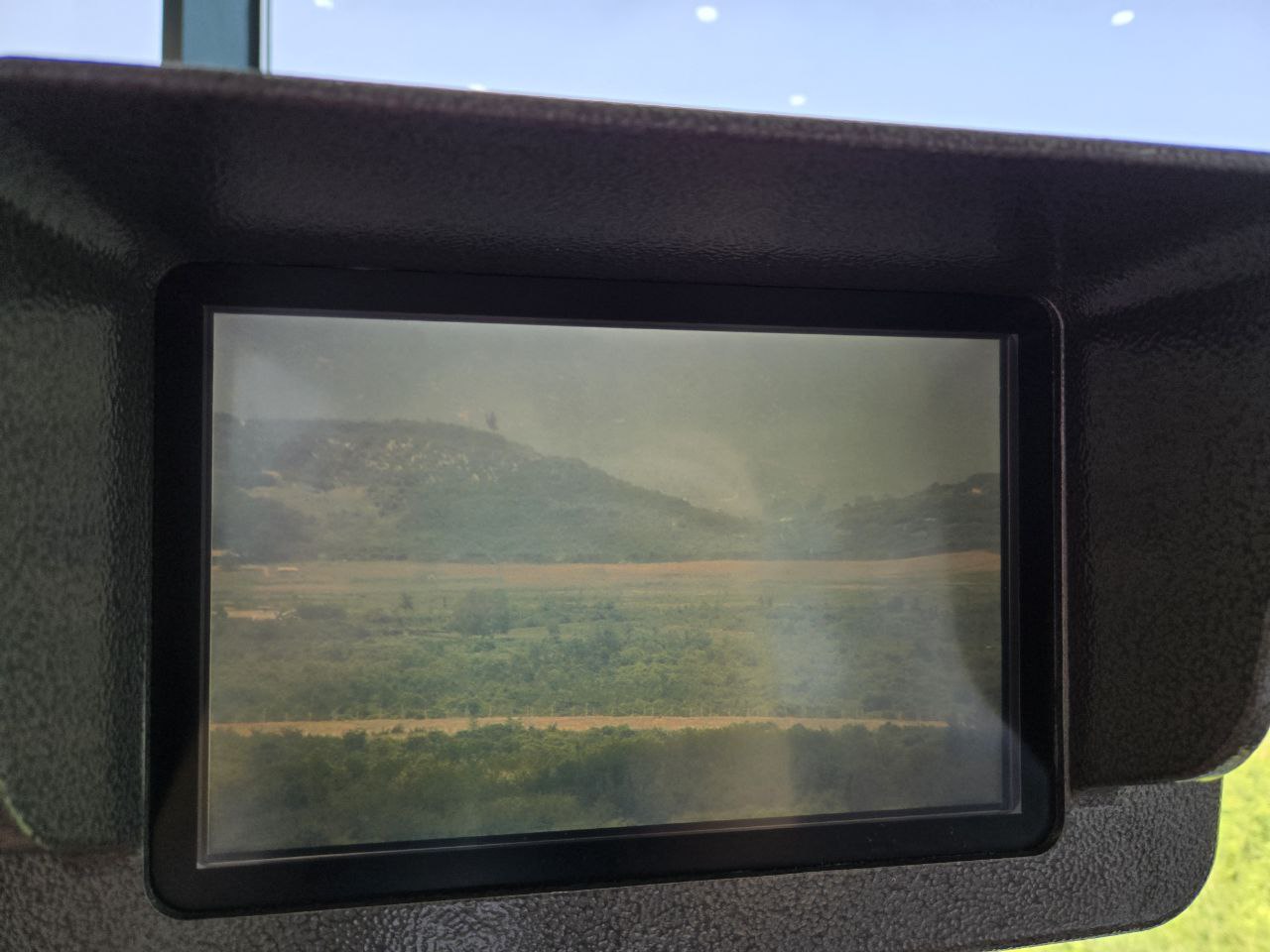














Комментарии 3
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.