«Многие предрекали выжженное поле. Не случилось. Доказательство тому — неисчерпаемые таланты, которые со сложностями, со всеми обстоятельствами все равно говорят своим голосом искренне и очень интересно. Меня это вдохновляет и, честно говоря, внушает оптимизм», — делится в интервью «БИЗНЕС Online» народный артист РФ и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, который летом привозил в Казань фестиваль искусств «Горький +». В ходе беседы он поразмышлял, почему Максим Горький для него является великим русским писателем, какие вызовы стоят перед командой театра им. Камала и что за новая киноработа оказалась для него самой тяжелой в карьере.
 Евгений Миронов: «Я искренне благодарен раису РТ Рустаму Минниханову и министру культуры РТ Ираде Аюповой за поддержку. Без нее организовать такой масштабный фестиваль было бы невозможно»
Евгений Миронов: «Я искренне благодарен раису РТ Рустаму Минниханову и министру культуры РТ Ираде Аюповой за поддержку. Без нее организовать такой масштабный фестиваль было бы невозможно»
«Казань — город, где Горький духовно вырос, начал публиковаться, фактически здесь стал писателем»
— Евгений Витальевич, этим летом спустя два года вы вновь привезли в Татарстан фестиваль «Горький +». Как изначально этот путь (Москва — Нижний Новгород — Казань) выстраивался, так как фестиваль проводился изначально в Москве?
— Началось все в Москве, где расположен знаменитый парк имени Горького, где бывал Горький и обсуждал флористику с легендарным директором парка Бетти Глан. Горький очень любил цветы. Мы думали о фестивале, только до конца не понимали его формат и масштаб. А потом оказалось, что фигура Горького и как писателя, и как личности очень резонирует с сегодняшним днем — меняется мир, как и 100 лет назад. Происходит смена эпох, какой будет новая — неизвестно. А Горький был одним из инициаторов изменения этого мира: очень активно участвовал в революционном движении, впоследствии, правда, он не принял Октябрьскую революцию, уехал за границу, потом снова вернулся в Россию. Очень интересно, как большой художник переживал эти события, какие у него были отношения с современниками.
Фестиваль получил название «Горький +», потому что, с одной стороны, это возможность посмотреть на более вековую историю, а с другой — взгляд на нас самих в контексте происходящих в мире перемен. Поэтому фестиваль расширился и стал включать в себя ключевые точки, оказавшие влияние на жизнь Максима Горького: Нижний Новгород — там он появился на свет и Казань — город, где он духовно вырос, начал публиковаться (фактически здесь он стал писателем), познакомился с множеством людей, оказавших влияние на его судьбу, и встретил свою первую любовь.
Фестивали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани отличаются друг от друга и показывают разные грани личности Горького. Москва стоит в нашем календаре последней — фестиваль пройдет с 28 по 31 августа, поэтому, помимо специально созданных проектов, мы покажем все лучшее, что было сделано в других городах. В Нижнем акцент делался на современное искусство — это было вызовом и потребностью самого города.
В Казани мы представили взгляд на классическое восприятие автора и его связь с татарской культурой. Он оказал значительное влияние на татарских писателей. Например, писатель и философ Гаяз Исхаки переписывался с Горьким — это интересный диалог между двумя культурами и эпохами. Сохранилось 18 его писем к Горькому, а ответных — всего два. Кроме того, мы всегда вовлекаем местные театральные и культурные институции, чтобы фестиваль был не просто московским событием, а площадкой для совместных творческих инициатив. Например, Ангелина Мигранова и Родион Сабиров создали инсталляцию и перформанс «Несвоевременные мысли» в Тайницкой башне Казанского кремля, режиссер Радион Букаев представил детский спектакль «Воробьишко» по рассказу Горького, режиссер Артем Устинов и драматург Дина Сафина в театральной резиденции «Особняк Демидова» показали эскиз спектакля «Горький оптимизм», а режиссер Алексей Федорченко снял фильм «Горящий Горький» в Красновидово с участием местных жителей. Наконец, специально для спектакля-концерта «Горький в музыке» по поэзии Горького с участием Эльмиры Калимуллиной, Ильгиза Шайхразиева и музыкантов Yummy Music были переведены тексты писателя на татарский язык.
Основной площадкой фестиваля стал театр имени Камала — ваше 8-е чудо света. Там прошли такие мероприятия, как спектакль-концерт «Рассказы Горького» при участии Московского камерного хора им. Минина под руководством Тимофея Гольберга, а также проект «Рождение человека» с Юлией Пересильд в сопровождении ансамбля «Комонь» и Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского. Этот подход позволяет создавать уникальную платформу для диалога между разными культурами и искусствами, делая фестиваль не только праздником памяти Горького, но и живым пространством для новых творческих экспериментов.
Мы также провели лабораторию режиссеров стран БРИКС совместно с артистами татарских театров. Для меня особым событием стало проявление интереса к фестивалю со стороны наших партнеров из Индии и Китая. В рамках программы были представлены детские спектакли, перформансы и цирковые шоу. Почему цирк? Потому что в детстве Горький мечтал стать циркачом. Локации фестиваля были разбросаны по всей Казани, а также в Красновидово и Альметьевске.
Я искренне благодарен раису РТ Рустаму Минниханову и министру культуры РТ Ираде Аюповой за поддержку. Без нее организовать такой масштабный фестиваль было бы невозможно. А так мы приехали во второй раз, и публика нас ждет. Это значит, что мы делаем все правильно.
 «Фестиваль получил название «Горький +», потому что, с одной стороны, это возможность посмотреть на более вековую историю, а с другой — взгляд на нас самих в контексте происходящих в мире перемен»
«Фестиваль получил название «Горький +», потому что, с одной стороны, это возможность посмотреть на более вековую историю, а с другой — взгляд на нас самих в контексте происходящих в мире перемен»
— Через год тоже придете, значит?
— Почему через?
— Первый фестиваль был в 2023 году, второй — в 2025-м.
— Я надеюсь, что фестиваль будет в следующем году. В 2024-м не провели из-за саммита БРИКС, который потребовал больших усилий и сил. Наш фестиваль тоже большой и масштабный, поэтому совмещать два события было бы очень сложно.
Евгений Витальевич Миронов — художественный руководитель Театра Наций, основатель кинокомпании «Студия Третий Рим», арт-директор фестиваля искусств «Горький +», народный артист РФ, Чеченской Республики и Башкортостана, член совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Родился 29 ноября 1966 года в Саратове. По окончании 8 классов в 1982 году поступил в Саратовское театральное училище им. Слонова, после выпуска был принят в школу-студию МХАТ. В 1990-м Миронов стал актером Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Играл главные роли в известнейших международных театральных проектах «Гамлет» и «Орестея» немецкого режиссера Петера Штайна, «Борис Годунов» англичанина Деклана Доннеланна, «Последняя ночь последнего царя» и «Карамазовы И АД» Валерия Фокина. В 2003-м впервые исполнил роль Лопахина в знаменитом спектакле Эймунтаса Някрошюса «Вишневый сад» и пр. С декабря 2006 года Миронов является худруком Театра Наций.
В кино Миронов начал сниматься в 1988 году, получил широкую известность после выхода фильма Валерия Тодоровского «Любовь» (1991). Также снимался в таких знаковых картинах, как «Утомленные солнцем», «Мусульманин», «Ревизор», «Идиот», «Космос как предчувствие», «В августе 44-го», «Превращение», «Охота на Пиранью», «Нюрнберг» и др.
С 2010 года под руководством Миронова ежегодно проходит фестиваль театров малых городов России. С 2022-го является арт-директором фестиваля искусств «Горький +», который проходит в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Также является соучредителем благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» и «Жизнь в движении», оказывающего помощь детям с ограниченными возможностями в области протезирования.
— А почему именно Горький для вас так интересен?
— Я считаю его великим русским писателем. Но как артист я никогда не соприкасался с ним в драматическом театре, потому что-то, что я делал в рамках фестиваля, — это все-таки концертно-театральный формат. Я с удовольствием бы сыграл, например, в пьесе «На дне». С другой стороны, мне интересно, как Горький реагировал на изменения в обществе, ведь он не сдерживал своих эмоций. Мы знаем, например, о его отношениях с Лениным, которые впоследствии были разорваны.
 «Основной площадкой фестиваля стал театр имени Камала — ваше 8-е чудо света»
«Основной площадкой фестиваля стал театр имени Камала — ваше 8-е чудо света»
Меня особенно интересует, как большой писатель переживал сложные моменты в истории. Его называют одним из главных представителей соцреализма, хотя он никогда прямо не работал в этом стиле. Горький был инициатором съезда советских писателей, писал острые статьи (цикл публицистических очерков и статей «Несвоевременные мысли»), и он во всем был искренним. Мне интересно понять, почему он так формулировал свои мысли, что это за эпоха стояла за его словами, ведь его высказывания были очень жесткими, почти подцензурными.
«В такое агрессивное время не может быть многоцветия — есть только черное и белое»
— Сегодняшние ваши чувства, глядя на окружающие нас реалии, перекликаются с тем, которые мог испытывать Горький?
— Безусловно. Не может не перекликаться. Потому что сложно переживать жесткие перемены, особенно творческому человеку, который очень восприимчив. Это для всех большое испытание. В такое агрессивное время не может быть многоцветия — есть только черное и белое. Все обострено до такой степени, что ты либо враг, либо друг. Для многих художников это трагедия, невозможность жить в новом мире. А кто-то адаптируется к новым обстоятельствам. Вопрос в том, как достойно и по-человечески пережить этот период и не потерять себя.
— И как пережить?
— Наверное, стараться честно заниматься тем, что считаешь важным. Для меня это театр — то, чему я посвятил свою жизнь. Это трудно, но мои педагоги в Саратове и Москве научили меня, что моя профессия — это не ремесло. Если ты вкладываешь в нее столько времени и сил, практически свою судьбу, при этом обделяешь близких, занимаясь почему-то именно этими темами, и, может быть, наивно думаешь, что театр может спасти кого-то и помочь, тогда нужно продолжать бороться, отстаивать, дорожить и сохранять.
 «Злодея играть не хочу, поскольку сейчас и без того много зла. А я сыграю его так обаятельно, что он станет привлекательным. Не хочу использовать свои способности»
«Злодея играть не хочу, поскольку сейчас и без того много зла. А я сыграю его так обаятельно, что он станет привлекательным. Не хочу использовать свои способности»
— В интервью нашей газете президент Александринского театра Валерий Фокин говорил, что еще не пришло время для осмысления изменений, произошедших за последние три года.
— Конечно, чувства обострены. Общество как катализатор показывает, насколько важно оставаться самим собой. Валерию Владимировичу легко говорить — он наполовину японец, его родственники ели сырую рыбу, что очень полезно (смеется). Видимо, поэтому у него холодный разум. Я же русский человек, как маятник качаюсь из одной стороны в другую и очень эмоционально все воспринимаю. В чем я ищу для себя равновесие? В кино и спектаклях, как, например, «Обыкновенная смерть», который мы делаем с Валерием Владимировичем, или сериале «Арсеньев», который скоро, даст бог, выйдет на экраны. Для меня важно проговорить эту тему — тему настоящего времени. Кстати, Владимир Арсеньев тоже фигура начала XX века: путешественник, географ и этнограф, автор повести «Дерсу Узала».
— Ведь этому проекту уже несколько лет?
— Почему мы три года писали сценарий? Есть гениальный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975), но смотреть его молодому поколению сегодня трудно — другой темпоритм. Поэтому мы были в сложной ситуации: с одной стороны, хочется рассказать и о самом Арсеньеве, и об истории страны, а с другой — должен быть увлекательный жанр. Мне кажется, мы придумали, как это совместить. Тем более происходили исторические события, которые бы этот жанр поддерживали (Русско-японская война, война с хунхузами, встреча с царем, революция, любовь). Но при этом, как мне кажется, осталась фигура писателя и очень достойного человека.
— Где снимали сериал?
— На Дальнем Востоке, в Петербурге и Подмосковье. И тут я не могу не высказать благодарность министерству культуры России, правительству Приморского края, каналу «Россия-1» и платформе «ОККО», при поддержке которых проходили эти сложнейшие съемки. И, конечно, нужно отметить вклад мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря которому построена натурная площадка «Москино», где был воссоздан Владивосток 1905 года с набережной и центральными улицами. Сейчас «Арсеньев» вошел в монтажный период, он будет долгим, потому что в сериале достаточно много компьютерной графики.
— Вы признаетесь, что сегодня на кино у вас остается очень мало времени. Театр в приоритете?
— Честно говоря, кино я интересуюсь, поскольку есть созданный мной и моими единомышленниками продюсерский центр «Студия Третий Рим». Мы снимаем то, что нам очень хочется, по любви. Я просто слежу за тем, что происходит в кинематографе, и, честно говоря, не вижу там себя. Мне это не особо интересно, за редким исключением. Поэтому пришлось открыть свою студию и инициировать проекты. Я не собирался это делать специально, потому что это не про зарабатывание денег.
— Нет ли планов снять о самом Горьком?
— Можно я чуть-чуть отдохну? (Смеется.) Съемки в сериале «Арсеньев» стали самой тяжелой работой в моей жизни, потому что я не только играл главную роль, но и был художественным руководителем проекта.
— Как думаете, почему за биографию писателя не берутся наши кино и театр?
— Не знаю. Это, кстати, на самом деле очень интересно. Даже в рамках фестиваля «Горький +» я думал обратиться к фигуре Горького и на основе этого сделать спектакль. Не получается пока. Потому что режиссеры, которых я приглашаю, например Марина Брусникина, говорят: «Давай лучше возьмем его произведение — они гораздо больше о нем говорят, чем он сам». Поэтому мы берем, предположим, «Рождение человека» и «Страсти-мордасти» (это его романтический период), и думаю: «Господи, я понимаю, почему он так много плакал». Горький был очень слезливым человеком, сентиментальным — слушал музыку и рыдал, несмотря на свою брутальную внешность, усы эти моржовые. Поэтому и рассказы гораздо больше о нем говорят, чем мы будем его биографию рассказывать. Хотя сейчас вот на московском фестивале Филипп Гуревич будет ставить спектакль о четырех его женщинах. И кто знает, может быть, через год найдется тот, кому окажется под силу фигура самого Горького.
— Если не видите интересных проектов, то какую роль вы бы хотели сыграть? Например, вы говорили, что злодея играть интереснее…
— Злодея играть не хочу, поскольку сейчас и без того много зла. А я сыграю его так обаятельно, что он станет привлекательным. Не хочу использовать свои способности.
Я получил огромное удовольствие от работы с Валерием Фокиным (не работали вместе лет 20, если не больше). Это было так правильно, так по делу, для души. И ты понимаешь, для чего вообще занимаешься театром. Поэтому я доволен этим поиском. Мы в самом начале договорились с Валерием Владимировичем, что попытаемся забыть о званиях и побудем студентами. Это было интересное путешествие, и было весело, несмотря на печальную тему, которая касается всех, — смерть.
— А есть роль-мечта?
— У меня никогда не было такой мечты. Но когда я соприкасаюсь, то это становится моей самой любимой ролью, потому что очень глубоко погружаешься, изучаешь все вокруг и внутри.
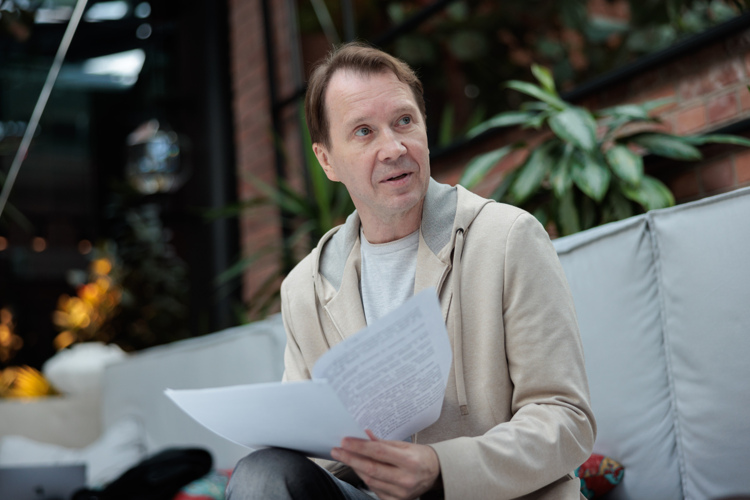 «Особенно у меня болит сердце за авторское кино. Это то, чем всегда был силен российский кинематограф»
«Особенно у меня болит сердце за авторское кино. Это то, чем всегда был силен российский кинематограф»
«Многие предрекали выжженное поле. Не случилось»
— Какой этап переживает сейчас российский кинематограф? Помнится, вы говорили, что сейчас этап эйфории: если раньше все боялись Netflix, то сейчас «на коленках шпарят безвкусные отвратительные» произведения, а зрителю больше и нечего смотреть.
— Есть очень способные люди, но вопрос в спросе и предложении. В театре у меня есть счастливая возможность (потому что театр поддерживается государством, а если был бы частный театр, то я вынужден был бы ставить коммерческие комедии) поиска, лаборатории. Государство понимает, что иногда можно ошибаться, ведь именно через ошибки мы движемся вперед, развиваемся и поднимаем важные темы. Например, скоро у нас будет проект со Сбером об искусственном интеллекте. В театре у меня есть возможность исследовать это, а в кино продюсеры считают деньги. Это их право, но под этим подходом (на поводу у зрителей) часто выпускается некачественный для меня контент. Цель одна — быстро срубить побольше денег. Меня это очень разочаровывает. Думаю, это будет разочаровывать и зрителя, который все-таки просыпается, потому что сейчас в кино особенно не на что идти.
Отсутствие конкуренции с Голливудом тоже плохо. Хорошо, когда есть рамки и квоты, потому что российскому кинематографу нужно помогать. И он развивается. Но важно, в какую сторону. Талант всегда побеждает, а в нашей стране есть талантливые люди, которые все понимают. Мы все равно придем к качеству. Я в этом уверен.
Особенно у меня болит сердце за авторское кино. Это то, чем всегда был силен российский кинематограф. Трудно представить, что зрители пойдут в кинотеатр на фильмы Андрея Тарковского и Алексея Германа. А именно по этим фильмам потомки будут судить о нас — потому что это искусство, высказывание больших художников, их видение нас сегодняшних.
— Какое-то сверхкино.
— Абсолютно точно. Это как в картины в музеях, которые говорят о нас во все века. Надо придумать, каким образом поддержать такое кино.
— Многие молодые актеры предпочитают уйти из театра в кино за большими деньгами. Сложно их удержать?
— А не надо никого удерживать. У кого есть мозги, тот понимает, что настоящее развитие и поиск возможен только в театре. В кино тебя тратят, используют. Там тоже бывают потрясающие открытия, но ты ограничен во времени. Поэтому я очень рад, как Юлия Пересильд, например, которая пришла в Театр Наций практически студенткой ГИТИСа, играла Сюзанну в «Фигаро. События одного дня», развивается и в кино, и в театре. Недавно она сыграла в пьесе Горького «Васса Железнова» главную роль. Будучи востребованной актрисой, как никто, она поняла, что для роли в театре ей нужно полностью погрузиться, посвятить [роли] два месяца. Это важный этап, для таких ролей необходимо остановить космическую скорость жизни, чтобы не улететь и потерять что-то ценное. Это говорит о том, что она не только талантливая и красивая, но и умная. Если этого нет, тогда пусть идут в кино и дальше, кому-то повезет, а кому-то — нет.
— Некоторые считают Театр Наций буржуазным театром, куда зрители, даже на серьезные спектакли, часто приходят скорее выгулять платье. То же самое сейчас можно видеть в новом здании театре имени Камала…
— Ничего-ничего, это временно. Я знаю, там пришла новая команда, художественный руководитель очень талантливый — Ильгиз Зайниев. Нужно время, потому что коллектив должен понять, что переезд в новое здание — это не просто новая квартира, а развитие, трансформация всего организма. Дальше нужно быть готовым к изменению, рождению чего-то нового.
Театр Наций стал (не очень приятное для меня слово) модным театром, к нам трудно попасть. Поэтому мы заложники того, что иногда приходят не совсем те зрители, на которых мы ориентировались. Но вопрос лишь в том, талантливо сделан спектакль или нет. Неталантливое не может идти в нашем театре, я считаю. А талантливое побеждает все социальные обстоятельства, уравнивает все социальные слои. Если вы говорите, что кто-то приходит и обсуждает какие-то экономические новости, то под конец спектакля, я думаю, они забывают о них. Для меня важно, чтобы будоражило то, что происходит на сцене. У нас их три, и у каждой разные задачи. Новое Пространство — это лаборатория, молодые режиссеры, которые пробуют абсолютно разный почерк, стиль и жанр. На малой сцене — внятные экспериментальные шаги режиссеров. С Валерием Фокиным мы именно на малой сцене выпускаем спектакль, потому что это интимный разговор, есть поле для эксперимента. Большая сцена — это всегда шоу, но не в пошлом смысле слова. Это и визуально должно увлекать, и темой, и воплощением — много компонентов. И с этим проблемы. Немногие режиссеры владеют большим форматом.
— Где найти этих режиссеров?
— «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», — писала Анна Ахматова. Я не понимаю, откуда берутся режиссеры. Меня часто спрашивают, хотел бы я поставить спектакль в качестве режиссера, поскольку мои коллеги актеры плодотворно работают в этом ампула. Я не могу себе этого позволить. Никогда. Потому что я работал с гениальными режиссерами и я понимаю, кто такой режиссер. Это очень многосочиненный компонент. Гениальный режиссер Эймунтас Някрошюс учился на химическом факультете, потом его стрельнуло в голову, он пришел в театр. То, как он видел мир, невозможно увидеть. Режиссер — это всегда другое видение, протест, оно складывается из детства, семьи, каких-то травм. Это отдельная профессия, режиссеров надо беречь.
 «Многие предрекали выжженное поле. Не случилось. Доказательство тому — неисчерпаемые таланты, которые со сложностями, со всеми обстоятельствами все равно говорят своим голосом искренне и очень интересно»
«Многие предрекали выжженное поле. Не случилось. Доказательство тому — неисчерпаемые таланты, которые со сложностями, со всеми обстоятельствами все равно говорят своим голосом искренне и очень интересно»
— Кого считаете талантливым режиссером новой волны?
— Всех, кто работает, в Театре Наций. Нынешнее время поспособствовало тому, что те, кто был в очереди, вышли на первый план. И они очень мощно развиваются, это касается не только Москвы и Петербурга. У нас работал Денис Бокурадзе (в Новокуйбышевске создал свой театр «Грань»), Мурат Абулкатинов (главреж Красноярского ТЮЗа), Филипп Гуревич, Елизавета Бондарь, Сергей Сотников и Данил Чащин.
Кроме того, есть зарубежные коллеги из Китая, Южной Африки и Индии. Это тоже открытие, потому что мы все время смотрели на Запад. Безусловно, там намного сильнее и мощнее развивается театр, хоть и традиции европейского театра сильно связаны с русским психологическим театром. Но в связи с обстоятельствами, посмотрев в сторону Востока, мы увидели очень интересных ребят: Дин Итэн из Китая поставил на малой сцене «Я не убивала своего мужа» с Марией Смольниковой в главной роли, Джеймс Нобо из Южной Африки поставил «Жюли».
— А что театры из этих частей света могут нам дать?
— Во-первых, мне сейчас интересен взгляд иностранца, любого, на нашу историю, театр. Помню, когда репетировал «Бориса Годунова» с британским режиссером Декланом Доннелланом, я поразился, насколько он легко относится к этой пьесе. Наши режиссеры давно бы «утонули» в нем, потому что «Борис Годунов» — это Александр Пушкин: ответственность какая! Когда они начинают изучать эту историю, царственную, и Шуйского, и Годунова, и Отрепьева, закапываются в этой ответственности. А Доннеллана интересовали другие вещи, и он оказался в выигрыше. Потому что это Пушкин, а не историк Василий Ключевский, который легко, но глубоко говорит на эту тему. Для меня это было открытием — оказывается, можно так.
Мне интересно, как, предположим, режиссер из Индии будет ставить у нас «Игрока» Федора Достоевского. А он с детства читал этот роман. Почему? Потому что книга стояла на полке у бабушки в индийской провинции, причем в переводе не просто на языке хинди, а в диалекте его района. Можете себе представить, как советская пропаганда работала? (Смеется.) Мне кажется, мы сейчас имеем возможность при таком общении обмениваться опытом. Мы ведь тоже очень мало что знаем о них. Я, например, очень мало знал о китайском драматическом театре. Оперу китайскую — да. Но драматический — нет. Они очень мощно развиваются в сценографии и современном искусстве, хотя учились по советским фильмам. И такой обмен мне интересен. После премьеры Джеймса Ноба мы, может быть, организуем образовательную программу в Кейптауне или в Йоханнесбурге.
— Как считаете, в России культурный разворот случился?
— Многие предрекали выжженное поле. Не случилось. Доказательство тому — неисчерпаемые таланты, которые со сложностями, со всеми обстоятельствами все равно говорят своим голосом искренне и очень интересно. Меня это вдохновляет и, честно говоря, внушает оптимизм.
Комментарии 18
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.