«Недавно проводили родственную трансплантацию между сестрами (34 года и 28 лет), у обеих семьи, дети маленькие. Говорю вам это, и волосы шевелятся, ответственность у трансплантологов колоссальная, без права на ошибку! А мотивация только личная», — рассказывает главный внештатный трансплантолог Татарстана Александр Киршин. В интервью ко Всемирному дню донорства органов Киршин рассказал о том, кто и как противодействует трансплантологам, почему не хватает донорских органов и можно ли пересадить сердце или почку за свой счет и не стоять в листах ожидания. Детали — в нашем материале.
 Александр Киршин: «Трансплантации — тяжелая работа, на зарплату выполненные пересадки не особо влияют. И это работа всегда с тяжелыми пациентами, а это риски»
Александр Киршин: «Трансплантации — тяжелая работа, на зарплату выполненные пересадки не особо влияют. И это работа всегда с тяжелыми пациентами, а это риски»
«Родственную трансплантацию делают буквально 8–9 команд хирургов в России»
— Александр Александрович, мы беседовали с вами три года назад, с тех пор вы стали начмедом Республиканского онкодиспансера (РКОД), главным внештатным трансплантологом республики. Как изменилась сфера трансплантации органов в Татарстане в целом и для вас за эти годы?
— Татарстан уверенно занимает лидирующие позиции среди региональных программ, у нас она одна из ведущих в стране. Конечно, за Москвой нам не угнаться в силу ряда обстоятельств, но среди регионов мы уверенно лидируем и по почке, и по печени, и по сердцу. Это основное достижение.
Второе — нам удалось привлечь в республику квалифицированные кадры. Я сам не местный, и, например, Артур Закирьянов, который был в составе команды, победившей в этом году на «Ак Чэчэклэр – 2025» в номинации «Уникальный случай» — мой земляк. Мы его привлекли в Татарстан из Москвы, он работал в Институте имени Шумакова. Большую честь оказал региону, это человек, у которого личный опыт трансплантаций сердца — более 300! Это мой друг, коллега, и я рад, что на личных взаимосвязях мне удалось привлечь такого профессионала в регион для работы.
Александр Александрович Киршин — врач-онколог, трансплантолог, заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) минздрава Татарстана, доцент кафедры хирургических болезней постдипломного образования Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с 2023 года — главный внештатный трансплантолог Татарстана.
Киршин родом из Ижевска, с 2005 года, после окончания института и клинической ординатуры по онкологии, работал в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Удмуртии, прошел путь от медбрата до заведующего сначала торакоабдоминального, а после колопроктологического отделениями. Завершил карьеру в Удмуртии в позиции заместителя главного врача Республиканского онкодиспансера.
В Татарстан переехал в 2019-м по приглашению руководства РКБ, чтобы заниматься трансплантациями печени. В РКБ Киршин возглавил отделение хирургии №2 (трансплантации печени), в 2021 году в составе группы врачей победил в номинации «Уникальный случай» республиканской врачебной премии «Ак Чэчэклэр – 2021».
В 2023 году Киршин был назначен заместителем главного врача по медицинской части РКОД, в 2025 году в составе команды врачей вновь победил в номинации «Уникальный случай» республиканской врачебной премии «Ак Чэчэклэр – 2025».
Также в 2025 году Киршин стал победителем премии лучшим врачам России «Призвание-2025» в спецноминации Первого канала «За подвижничество в медицине».
Нам удалось сегодня собрать в Татарстане команду молодых (всем около 30) идейных ребят, которые готовы работать. В этой специальности неидейным быть не получится: трансплантации — тяжелая работа, на зарплату выполненные пересадки не особо влияют. И это работа всегда с тяжелыми пациентами, а это риски. Нас, настоящих буйных в профессии, мало, гораздо проще заниматься другими, более понятными областями медицины, чем выполнять многочасовые и технически сложные операции, в том числе в ночное время.
— Спорить с Москвой в части финансов и профессионального интереса сложно. Как удалось переманить специалиста?
— В Казани ему обеспечили достойные условия, плюс профессионалам интересно развиваться, а в Татарстане мы с этого года серьезно усложнили программу. Например, в конце июля мы провели 8-ю в этом году родственную трансплантацию печени, когда мы забираем правую долю органа у живого донора, это генетический родственник пациента. Эту долю пересаживаем пациенту вместо его печени. Для понимания: родственную трансплантацию делают единичные клиники в стране, я смогу назвать буквально 8–9 команд хирургов в России, которые этим занимаются. Мы все друг друга знаем. Нам в Татарстане потребовалось накопить достаточный опыт в трупной трансплантации, собрать команду энтузиастов. У нас получилось.
Развиваемся в области фрагментарной печеночной трансплантации: в этом году мы выполнили первую в ПФО сплит-трансплантацию, то есть разделили печень посмертного донора на две половины и пересадили двум пациентам, спасли двух женщин. Печень мы разделили на препаровочном столике, обе операции у реципиентов шли параллельно, на соседних столах. Так мы можем увеличить шансы бо́льшего количества пациентов. В общем, стараемся изо всех сил, как-то пытаемся двигаться: в этом деле без энтузиазма никуда. Если энтузиазма нет, то вы увидите то, что происходит в большинстве регионов в сфере пересадки органов, — ничего. Вот и все.
Наконец, к результатам можно отнести оценку нашей работы — вон, у меня в шкафу «руки» стоят (речь идет о статуэтке-скульптуре «Золотые руки», которую Александру Киршину вручили как лауреату всероссийской врачебной премии «Призвание», — прим. ред.). Это результат командной работы, признание нашей программы, поскольку мы в республике немало пересаживаем печени пациентам с онкопатологией.
Когда мне было доверено работать в РКОД, появилась возможность видеть таких пациентов, наблюдать их, контролировать процесс их лечения и если есть малейшая возможность помочь, то предложить пациента на трансплантацию печени.
 «В этом году мы выполнили первую в ПФО сплит-трансплантацию, то есть разделили печень посмертного донора на две половины и пересадили двум пациентам, спасли двух женщин»
«В этом году мы выполнили первую в ПФО сплит-трансплантацию, то есть разделили печень посмертного донора на две половины и пересадили двум пациентам, спасли двух женщин»
— Целью вашего назначения в РКОД было создать с помощью вас эту связку между РКОД и трансплантациями?
— Не знаю, я не уточнял. Но по первой специальности я хирург-онколог. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Плюс кое-что я тоже могу в плане развития: мне всегда было интересно внедрять что-то новое, развивать это направление, обучать ему людей. Думаю, это полезный навык в стенах РКОД: не хочу никого обидеть, но, к сожалению, в большинстве региональных онкодиспансеров стагнация. А в Татарстане проводят и родственную трансплантацию печени, и пересадки печени при онкозаболеваниях. Наконец, в РКОД есть робот-хирург, появилась возможность осваивать и развивать роботическую хирургию, в том числе в сфере трансплантации — например, выполнять на роботе забор родственной печени. В мире такое делают, а в России пока нигде, и я бы хотел развить эту технологию: сейчас мы вынуждены выполнять большие разрезы живым родственным донорам и забирать половину печени. С помощью робота получится изымать долю печени значительно менее инвазивно. Пока это только планы, но технические возможности с наличием робота сильно растут. В Нью-Йорке в этом году сделали двустороннюю трансплантацию легких на роботе. Человеку убрали его легкие и пришили легкие посмертного донора на роботе. Вот куда технологии ведут!
Мне всегда было немножко обидно, почему в Европе, в США это могут, почему они это делают, а мы — нет. Мы хуже, что ли? Наши пациенты менее достойны жить? Или менее достойны получать качественное лечение? Нет. Они такие же люди. Все имеют равное право на жизнь. Помню, делал доклад, в котором упомянул о регионах, где лучше всего болеть циррозом печени. Идут Москва, потом — Татарстан, Новосибирск, Иркутск. Почему? Потому что там работают программы по трансплантации органов, там есть увлеченные врачи, которые могли бы этого не делать.
— Почему тогда у нас в стране не проводят такие операции повсеместно?
— Все упирается в энтузиазм на местах, в политическую волю руководства региона, административный ресурс. В Татарстане понимание важности развития трансплантаций есть с самого верха, команда энтузиастов есть. Поэтому мы делаем то, что делаем.
А там, где по тем или иным причинам данный вид помощи не развит, пациентов направляют в федеральные центры. Там, конечно же, помогут и окажут помощь на самом высоком уровне. Но нередко это оборачивается длительным ожиданием и необходимостью проживания поблизости с клиникой. Иногда за это время человек умирает. Поэтому очень важно, чтобы эта помощь не была чем-то из разряда сверхъестественного или фантастического. Это должна быть рутинная, обычная процедура, как операция на сердце, например, или замена суставов. Трансплантация должна быть представлена в каждом регионе!
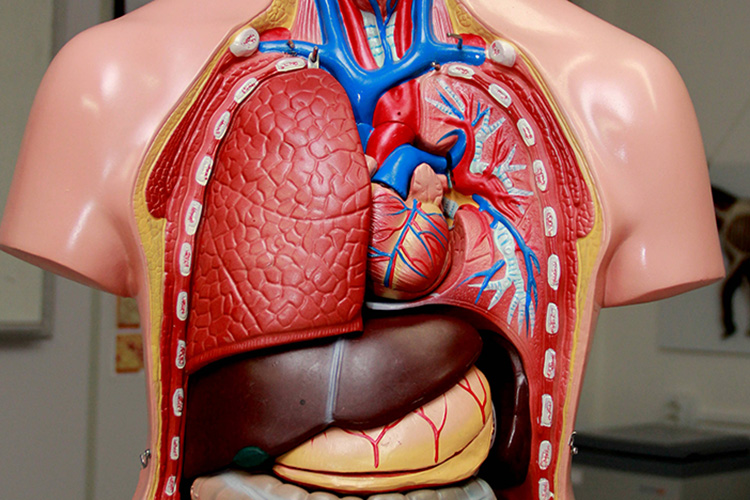 «Пересадка органов относится к высокотехнологичной медпомощи (ВМП), стоимость такой квоты — 1,25 миллиона рублей»
«Пересадка органов относится к высокотехнологичной медпомощи (ВМП), стоимость такой квоты — 1,25 миллиона рублей»
«Татарстан такие операции не проводит, но в теории мы к этому готовы»
— Александр Александрович, трансплантация — одна из самых дорогих операций, насколько знаю. Как она оплачивается в России, можно ли ее сделать за свой счет и не ждать орган?
— Пересадка органов относится к высокотехнологичной медпомощи (ВМП), стоимость такой квоты — 1,25 миллиона рублей. Понятно, что ни одна квота ОМС не покроет такой финансовый объем.
Проводятся такие операции только по квотам. В теории за счет пациента можно провести родственную трансплантацию, например, жителю другой страны, если есть такая необходимость. Татарстан такие операции не проводит, но технически мы к этому готовы.
— То есть республика может заработать на пересадках не только репутационно, но и финансово?
— Естественно.
— Какова рыночная стоимость пересадки органа?
— Порядка 4 миллионов рублей. В Республике Беларусь, кстати, проводят трансплантацию печени иностранцам от посмертного донора, стоит 100 тысяч долларов, то есть 8–9 миллионов рублей. В России, думаю, пока нет такой возможности.
— При этом в Татарстане начали проводить пересадки органов жителям других регионов по федеральным квотам. Сколько их выделено в этом году? Их появление — новелла для региона?
— Не новелла, они были, но буквально несколько штук. Благодаря руководству Татарстана в этом году нам впервые выделили довольно большой объем — 20 квот на печень, 38 квот на почку и одну квоту на сердце, часть из которых мы уже закрыли. Отмечу, что по таким квотам проводятся в том числе и родственные трансплантации органов. География пациентов обширная: к нам едут с Камчатки, из Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Коми, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Свердловской области, Марий Эл, Кировской области, Краснодарского края. Приезжали также пациенты из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
— Несколько лет назад шли разговоры о центре трансплантологии ПФО, для его открытия же нужны федеральные квоты, и сейчас республика «стала ближе» к его появлению. Какие-то подвижки в этом вопросе есть?
— Этот момент надо уточнять, потому что федеральные квоты в Москве и у нас — это две разные вещи с точки зрения финансирования и стоимости: цена квоты в Москве — 3 миллиона рублей, у нас — 1,25 миллиона рублей. Но это не моя компетенция, и углубляться в это я не могу.
Поэтому, да, эти квоты позволяют нам оперировать пациентов из других регионов, но они не равны тем федеральным квотам, которые выдаются федеральным центрам. Но, конечно, если бы у нас тут был федеральный центр трансплантации органов на ПФО, это была бы другая история.
 «Количество трансплантаций растет за счет технологий: мы начали делать родственные пересадки, делить печень, все это увеличивает количество операций»
«Количество трансплантаций растет за счет технологий: мы начали делать родственные пересадки, делить печень, все это увеличивает количество операций»
«Лучше проводить 30 трансплантаций печени в одном месте, чем делать по 10 операций в трех местах»
— Александр Александрович, на коллегии минздрава в этом году анонсировались планы по созданию еще одного куста трансплантации, на базе больницы номер 7. На какой стадии проект?
— Проект заработал, у них на этот год три квоты на пересадку сердца. Всего с начала года в республике уже провели 42 пересадки печени (из них 8 родственных, один сплит), 56 трансплантаций почки, 15 — сердца. Сейчас пересадки сердца в Татарстане делают в МКДЦ и БСМП Набережных Челнов, теперь начали и в ГКБ номер 7.
Но я против того, чтобы трансплантационная помощь внутри региона была децентрализирована. Зачем это надо? Мы живем в эпоху центров высокопоточной хирургии. Я бы сам предпочел оперироваться у доктора, который делает одну и ту же операцию каждый день, чем у доктора, который делает ее раз в полгода.
Это как и в роботической хирургии: если ты не оперируешь на роботе хотя бы 1–2 раза в неделю, ты теряешь навык. Поэтому считаю, что лучше проводить 30 трансплантаций печени в одном месте, чем делать по 10 операций в трех местах.
— Челнинская БСМП, где с 2024 года начали проводить пересадки сердца, — это репутационная история?
— У них довольно мощная кардиохирургия, и БСМП закрывает собой Закамье, с одной стороны. С другой — 5–6 квот на год — это всего 5–6 операций. Я все же за то, чтобы подобные вмешательства проводились в одном месте. Это выгодно и с финансовой точки зрения: материально-техническая база тоже «распыляется», лучше, считаю, укомплектовать одну клинику всем, что нужно, чем дорогостоящее оборудование закупать в несколько клиник или пытаться обходиться без него, это уже ненормальная история.
— На протяжении нескольких лет в Татарстане растет количество трансплантаций органов, что, конечно, радует. За счет каких мероприятий удается нарастить этот объем?
— Количество трансплантаций растет за счет технологий: мы начали делать родственные пересадки, делить печень начали, все это увеличивает количество операций.
— Пару лет назад минздрав Татарстана издал приказ, по которому пересматривалась работа службы реанимации и маршрутизация пациентов, которым требуется такая помощь. Была теория, что пересмотр службы реанимации позволяет не терять возможные донорские органы…
— Действительно, была пересмотрена система маршрутизации пациентов, которые поступают реаниматологам, но с трансплантациями это не связано: задачей было увеличить шансы на выживаемость пациентов в условиях многопрофильных клиник третьего уровня.
Потери всегда есть, донорских органов катастрофически не хватает. На сегодня в листах ожидания по печени порядка 200 человек, по почкам — около 300. По сердцу — порядка 100 человек. Но это не постоянная единица, кому-то пересаживают орган, и он выбывает из листа, кто-то не дожидается операции. Помимо этого, лист постоянно пополняется новыми пациентами.
Органов не хватает, потому что, во-первых, мы не владеем всеми технологиями увеличения количества донорских органов, принятых в мире. Есть принципиально два события, которые приводят к смерти человека: либо остановка сердца, либо смерть мозга. Большинство посмертных доноров — это доноры после смерти мозга, потому что биологическая смерть фактически наступила, она доказана, но сердце при этом может биться, потому что процессы поддерживаются искусственно реаниматологами. Внутренние органы человека остаются жизнеспособными, а у трансплантологов есть время, чтобы подготовить их к пересадке. Это самый распространенный сценарий.
Есть технологии, которые позволяют изъять органы у человека с остановившимся кровообращением, то есть когда у него констатировали смерть мозга и остановилось сердце. К умершему человеку подключают аппараты поддержки кровообращения (веноартериальное ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация), он сохраняет внутренние органы живыми и пригодными для пересадки.
Но это дорого: один сеанс порядка полумиллиона может стоить, и, соответственно, цена донорских органов сильно возрастает. Второе — можно не запускать кровообращение, но надо очень быстро поменять всю кровь на консервирующий раствор. Но это также дорого. То есть технически можно с любым умершим проделывать — сохранять органы для изъятия и спасать так людей. Но на практике фактически ни с кем, потому что это вопрос организации. А он сильно зависит от донорства как системы.
В Испании, например, 45 изъятий донорских органов на миллион жителей. В Москве — 30 на миллион, но в остальных регионах либо ноль, либо два-три. В Татарстане в 2023 году был рекорд — 17 изъятий. Это очень хороший результат среди регионов.
— Как нужно поменять систему в Татарстане, в России, чтобы у нас, как в Испании, не было очередей на органы?
— Во-первых, это как линия горизонта — мы к ней приближаемся, она отдаляется, то есть полностью потребность никогда не закрыть, даже в странах с развитыми системами органного донорства. С другой стороны, нужны большие финансовые вложения, чтобы, например, оснастить каждую бригаду скорой помощи аппаратами непрямого массажа сердца, портативными аппаратами ЭКМО, чтобы сохранять органы, выстроить единую информационную систему, чтобы трансплантационные координаторы могли со своего рабочего места «зайти» в любую реанимацию в любой больнице Татарстана, видеть, что происходит с пациентами.
Но даже эта система не сработает без воли человека и его осознанности. В Испании, например, католическая церковь выступает за трансплантацию, информированность жителей высокая. А у нас осознанность такая, что, если мы откажемся от презумпции согласия и начнем спрашивать у родственников разрешение на изъятие органов, мы вообще без доноров останемся. У нас нельзя по-другому, у нас до сих пор верят, что пациенты погибают от бездействия врачей, потому что нужны органы для пересадки. При этом у нас не думают о том, что трансплантации проводятся в государственных клиниках, что над каждой операцией работают бригады врачей, часто — нескольких отделений, что каждое действие этой процедуры подотчетно, и скрыть что-либо невозможно.
Я всегда говорю, пока тебя это не коснется, тебе все равно, что там происходит: ну умер сосед от цирроза, ну не я же умираю. А когда человека касается напрямую — риторика совсем иная! Надо много работать по популяризации этого вопроса, причем на разных уровнях, чтобы в головах людей не было информационного вакуума.
На деле трансплантология — самая гуманная специальность, единственная в медицине, где смерть помогает жизни. В бестселлере Джошуа Мезрича «Когда смерть становится жизнью» есть замечательная цитата: «Органы, которые мы пересаживаем, — печень, почки, сердце — являются ценнейшим подарком, даром жизни, последним, что мертвые могут дать живым». Задача врачей, нашего сообщества, — убедиться, что подарок дошел до адресата. Но бывает, что мы не можем этим подарком воспользоваться, потому что даже не знаем о его существовании. Система для этого и нужна, чтобы сплотить воедино врачебное сообщество, потому что не все медработники разделяют эту идею, тем более когда их не касается. Зачем иметь неприятные разговоры с родственниками умершего и что-то делать? Можно оставить все как есть, пусть сердце остановится и смерть мозга перейдет в смерть в традиционном о ней представлении — когда сердце не бьется. Зато претензий никаких не будет.
Или зачем переводить сложного пациента, близкого к смерти, в ВМП-центр, чтобы за него поборолись, а если не получится, и он все же умрет, — чтобы оперативно изъяли органы? Это же нужно будет объяснять свои действия родственникам — зачем перевели, куда перевели и так далее.
Мотивы противодействия развитию органного донорства у всех разные. У населения — отсутствие осознанности, у организаторов здравоохранения — нежелание принять на себя дополнительную ответственность.
Бывают и ситуации, когда сами медработники отказываются, чтобы их умерший родственник выступил донором. Буквально недавно в одном из районов Татарстана от кровоизлияния в мозг впал в кому молодой человек. Его сердце билось, но мозг погиб, то есть человек умер. Его мама, медработник, категорически запретила использовать сына в качестве донора органов. Между тем в реанимации той же больницы в это же самое время погибают пациенты, которых можно было бы спасти. Наши руки были связаны — по закону родственникам умершего достаточно в устной форме выразить отказ, и все, мы ничего не можем с этим поделать. Это к вопросу об осознанности медработников, что говорить об остальных людях?
Проблема и в том, что они не видят пациентов, которых спасают эти органы, не видят их счастливые лица, то, как меняется их жизнь. Надо понимать, что люди, которые нуждаются в пересадке, из-за болезней не могут нормально жить, работать, они становятся обузой для своих родственников. Донорские органы для них — последний шанс, и когда они их получают, то начинают жить заново, полно, женятся, детей рожают. Наша пациентка, которой мы в 2019 году сделали пересадку печени, родила ребенка и сейчас ждет второго. Есть даже трансплантационные игры для людей с пересаженными органами. Они ведут такой же активный образ жизни.
— Но при этом пожизненно остаются на препаратах, подавляющих иммунитет…
— Да, ложка дегтя есть, но бочку меда она не портит: лучше принимать препараты, которые подавляют отторжение органа, чем быть привязанным к аппарату гемодиализа, на который ты 3 раза в неделю ходишь. В случае с циррозом печени даже заместительной терапии нет, люди просто медленно умирают годами от кровотечений, от асцита, у них нарушаются функции мозга настолько, что они годами пребывают в жесткой энцефалопатии и не понимают, что с ними происходит.
Да, в большинстве этих ситуаций люди сами виноваты. По сердцу и почкам такого нет, но с половину пациентов с циррозом печени, которые нуждаются в пересадке, злоупотребляли алкоголем.
— Вас это не смущает?
— Меня смущает, но мы все люди, а человеку свойственно ошибаться. И если человек ошибся в своей жизни и он готов исправиться, то почему бы ему не дать еще один шанс?
Вообще, в трансплантологии много этических вопросов. Вот, например, есть у нас два пациента. Один, например, алкоголик, который с мамой живет, у которого ни семьи, ни детей, ни работы, и цирроз свой он «заработал» образом жизни. Другой — женщина, у которой трое детей, любящий муж, которая работала до болезни, но имеет генетическое заболевание, которое привело к проблемам с печенью и прочим. Алкоголик — «тяжелее», но риски умереть у них в ближайшие три месяца одинаковые. Кого из них выбрать?
— И кого выбрать?
— Я не знаю. Решение принимает консилиум врачей. Формально мы не должны знать ничего о семье, работе, социальных факторах. И формально мы должны взять алкоголика — его состояние тяжелее. Если бы у нас хватало донорских органов, мы бы не стояли на этой развилке каждый раз, выбирая, кому жить, а кому умирать. Мы бы всем давали возможность жить.
— А если он и донорскую печень продолжит убивать алкоголем?
— Такое тоже бывает. Это наша боль и это наша ошибка. По рекомендациям у пациента должно быть не менее полугода абстиненции для того, чтобы включить его в реестр на ожидание печени. Он должен доказать нам, что встал на путь исправления. Но, к сожалению, у большинства этих людей нет полугода, они просто не выживут. Иногда нужно нарушать регламент и брать на себя ответственность за то, что этот человек бросит пить и не вернется к этому никогда. И большинство действительно встают на путь исправления: только около 10–15 процентов реципиентов возвращаются к алкоголю после пересадки. Таковы реалии.
 «Мне не хочется ни с парашютом прыгать, ни в горы ходить. Я и, наверное, другие хирурги тоже получаем этот адреналин в операционной»
«Мне не хочется ни с парашютом прыгать, ни в горы ходить. Я и, наверное, другие хирурги тоже получаем этот адреналин в операционной»
«Иногда я думаю, что мы все адреналиновые наркоманы»
— Александр Александрович, в прошедшие несколько лет много говорилось об успехах пересадок в республике. Это как-то сказалось на сознании пациентов, медсообщества?
— Посмотрим по комментариям под интервью (улыбается). На самом деле репутация нарабатывается десятилетиями, но разрушить ее можно в очень короткий момент. Как у нас было уже в России: в 2003 году вышел выпуск «Честного детектива» Аркадия Мамонтова о «черных трансплантологах», в 20-й горбольнице в Москве разбирали на органы живых людей, врачей задержали, раскрутили все так, что… Слово лечит, но слово и убить может. Поэтому я не отказываюсь от интервью. Понимаю, что вряд ли добьюсь быстро какого-то результата, но по крайней мере я буду понимать, что сделал все, что мог, чтобы нас услышали, чтобы у общества было понимание, что мы помогаем людям. Как правило, ценой своего здоровья, личного времени.
Трансплантация в исполнении нашей команды обычно занимает три-четыре часа, иногда это 9 часов, зависит от сложности. Но любая такая операция физически истощает, а родственные трансплантации — вообще за гранью, потому что ты должен у здорового человека забрать половину здоровой печени! Причем разделить ее в организме живого донора нужно максимально безопасно, чтобы он не пострадал после операции.
Да, со временем орган восстановится, но риск смерти донора есть, это 0,02 или 0,002 процента, то есть единичные случаи, но какая разница — они же есть! А у донора и реципиента семьи, дети… Вот недавно проводили родственную трансплантацию между сестрами, 34 года и 28 лет, у обеих семьи, дети маленькие. Говорю вам: это и волосы шевелятся, ответственность у трансплантологов колоссальная, без права на ошибку! А мотивация — только личная. Сейчас минздрав Татарстана работает, конечно, над финансовой мотивацией, исполняющий обязанности министра (Альмир Абашев — прим. ред.) дал задание увеличить оплату [трансплантологам]. Но мне проще, например, при существующей оплате отказаться от операций и никуда не ходить. Можно я ночью посплю дома вместо того, чтобы несколько часов в операционной стоять, спасая реципиента и беря на себя полную ответственность за его жизнь? Это крайне опасная специальность, без права на ошибку.
— Почему же вы не спите ночами дома, а встаете к операционному столу?
— Иногда я думаю, что мы все адреналиновые наркоманы. Мне не хочется ни с парашютом прыгать, ни в горы ходить. Я и, наверное, другие хирурги — тоже, получаем этот адреналин в операционной. Да, из-за этого раньше времени становимся больными, умираем, но по-другому уже не хочется.
— А почему такие сложные операции, как трансплантации, ночью проводятся? Врачи устали, концентрация теряется…
— Это касается особенностей специфики законодательства констатации смерти мозга доноров: после смерти мозга необходимо выждать 6-часовой интервал, после которого можно приступать к изъятию органов. И часто, действительно, бывает так, что истекает этот интервал в ночи: привезли, предположим, пациента в реанимацию с диагнозом смерть мозга утром, нужно провести подтверждающие это тесты, анализы, исследования с привлечением врачей других специальностей, после — констатировать смерть мозга. На все это нужно время. Добавим сюда 6-часовой интервал, и получается, что трансплантация выпадает на ночь. Но так бывает не всегда, пересадки проводятся и утром, и днем.
 «Редактирование генома — самая перспективная разработка»
«Редактирование генома — самая перспективная разработка»
«Идеальный сценарий — тот, при котором трансплантации не нужны»
— Александр Александрович, какие новые типы трансплантаций, которые делают в России и в мире, хотелось бы освоить в Татарстане?
— Да много чего. Мы не делаем трансплантацию легких, а хотелось бы этим заниматься. Трансплантацию поджелудочной железы, тонкого кишечника уже проводят в России, и это тоже перспективное направление. Делают в мире и трансплантацию матки, например, от матери к дочери бесплодной, которая таким образом сможет иметь детей.
В Татарстане мы бы хотели наладить трансплантацию легких — это одна из точек роста, поскольку трансплантация легких, как в случае с сердцем и печенью, — это спасение жизни.
Вообще, идеальный сценарий — тот, при котором трансплантации не нужны, когда пациенты задумываются о своем здоровье, когда работают системы мониторинга, болезни выявляются на ранней стадии и успешно пролечиваются без радикальных вмешательств. Но это неосуществимый сценарий, потому что наши пациенты — люди, а людям свойственно ошибаться.
— К вопросу о донорских органах — в мире развивается масса технологий вроде печати донорских органов, выращивании их на животных. Как думаете, есть за этими технологиями будущее?
— Сейчас идет активная работа в направлении редактирования генома свиньи, задача — максимально убрать гены, которые кардинально отличают ткани свиньи от тканей человека, чтобы свиной орган пересаживать человеку без дальнейшего отторжения. Уже есть истории пересадки от свиньи к человеку сердца, почки. Понятно, что после таких операций люди прожили короткое время, но это успех и задел на будущее: первая пересадка печени, выполненная в 1963 году американским хирургом Томасом Старлзом, закончилась гибелью пациента от кровопотери, а после первой пересадки сердца, сделанной в 1967 году Кристианом Бернардом, человек прожил только 18 дней. Сейчас это неудовлетворительный результат, но тогда это был оглушительный успех, сродни первому полету в космос, без него не было бы успешных пересадок сегодня.
Пока редактирование генома — самая перспективная разработка. Да, на биопринтерах органы печатают, структуру можно воссоздать, но функцию — нет.
— Как считаете, придет ли человечество когда-нибудь к пересадке органов не по показаниям, а в целях замены «изношенных» органов на более молодые?
— Маловероятно. У нас нуждающимся-то не хватает! Существуют четкие показания к такой операции, пациент, которому надо делать трансплантацию, должен быть достаточно болен, чтобы претендовать на орган, но при этом он не должен быть очень сильно болен, чтобы перенести эту трансплантацию, понимаете? Очень много тонкостей.
— Как будет развиваться трансплантация в Татарстане на протяжении 5–10 лет?
— Мне бы хотелось, конечно, чтобы в республике появился центр трансплантации органов ПФО, если будет оказано внимание этой области. Чтобы активно развивалось донорство — это, наверное, даже важнее. Донорство и трансплантация — две вещи, которые идут бок о бок, без программы донорства не будет и трансплантации, мы не можем замалчивать эти проблемы.
Это вопрос не только Татарстана, мы, например, неоднократно выходили на контакт с ответственными за развитие трансплантации лицами в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии. Несмотря на то что мы проводим трансплантации жителям этих регионов по федеральным квотам, нам никак не удается наладить коммуникацию по вопросам донорства.
Мы же создаем доступную среду для людей с ограниченными возможностями, заботимся о пожилых людях. А зачем? Пусть так выживают. Развитие донорства и трансплантологии — такое же направление, которое требует вложений. Отношение к старикам, детям, больным людям и животным — то, что отличает цивилизацию. Это отношение не должно быть избирательным.

Комментарии 57
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.