«Есть врожденный компонент, скажем так, жесткие чертежи, которые обеспечивают не идеальное, но все же достаточное приспособление к окружающей среде. Если бы человек рождался и абсолютно ничего не знал об этом мире, то он бы и обучаться в нем не смог», — говорит в интервью «БИЗНЕС Online» известный нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов. Он рассказал, когда сюжет фильма «Вспомнить все» станет нашей реальностью, почему смех — это глюк мозга и что такое оптогенетика.
 Владимир Алипов: «Если бы человек рождался и абсолютно ничего не знал об этом мире, то он бы и обучаться в нем не смог»
Владимир Алипов: «Если бы человек рождался и абсолютно ничего не знал об этом мире, то он бы и обучаться в нем не смог»
«Если бы человек рождался и абсолютно ничего не знал об этом мире, то он бы и обучаться в нем не смог»
— Владимир Иванович, я так понимаю, что нейробиология изучает взаимодействие нашей нервной системы с мозгом. Туда стекается вся информация от наших органов чувств (различных нервных окончаний, органов зрения, осязания, обоняния, вкусовых рецепторов и так далее), а мозг уже нам говорит, что эта поверхность гладкая, это горячее, этот предмет желтый и расположен далеко, этот запах отвратительный и зловонный, а эта еда вкусная. Как мозг это делает? Как он все это систематизирует и выдает нам готовую информацию, которую мы безоговорочно принимаем, и почему мы ее безоговорочно принимаем?
— Раньше были модели того, как работает мозг, согласно которым информация поступает в мозг и потом начинается какой-то ее анализ. Например, из каких-то деталей изображения постепенно строится картинка. То есть сначала линии, из них — фигуры, из фигур — какие-то объекты, потом это все собирается в общую картину. Но здесь возникает проблема скорости того, как это происходит. Если в таком режиме действительно все это делать, то мы очень много времени тратили бы на то, чтобы что-то увидеть. Например, мы видим какие-то оранжевые полоски, потом — черные полоски, потом все это выстраиваем в какие-то формы, и, пока наш мозг все это обобщил и сказал нам, что это тигр, он бы нас к тому времени уже схватил и загрыз.
Алипов Владимир Иванович — нейробиолог, врач-онколог, преподаватель учебного центра им. Бехтеревой.
Окончил ПМГМУ им. Сеченова, лечебный факультет (персонализированной и трансляционной медицины) (2012–2019).
Высшая школа онкологии, ФГБОУ ВО СПбГПМУ, ординатура по онкологии (химиотерапия) (2019–2021).
Аспирантура ИВНДиНФ РАН по специальности «нейробиология», научный руководитель — Анохин К.В., Балабан П.М. (2021–2023).
Опыт работы:
Сотрудник New York University (NYU), лаборатории Юрия Бужаки, Институт перспективных исследований мозга МГУ, Института Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Активно занимается просветительской деятельностью и популяризацией науки.
Автор ряда курсов на тему нейробиологии.
С 2019 года ведущий и автор канала «Владимир Алипов» на YouTube.
Сейчас исследования в области когнитивных наук с помощью нейровизуализации показывают, что у нас работают одновременно две системы. Есть и поступление информации в головной мозг снизу от органов чувств, и есть то, что сам мозг, например, зрительная кора, формирует модель окружающего мира заранее. Иными словами, сначала мы представляем, что мы могли бы увидеть и как мог бы выглядеть окружающий мир, и только потом мы эту модель лишь немножко подправляем за счет той информации, которая поступает к нам от органов чувств. Получается, что это намного быстрее. То есть генерируется огромное количество неких черновых заготовок и потом в зависимости от развития сюжета в нужные места вставляется визуализированная информация.
Как это работает? Например, идет важный баскетбольный матч, статью о котором репортеру нужно срочно дать в печать по его окончании. Репортер заранее готовит статью, и потом в зависимости от того, какая команда победила, слегка корректирует свою заготовленную «рыбу», вставляет результат и название победителя и проигравшего и бросает в печать, чтобы быть первым. Это очень похоже на то, как работает наш головной мозг. Можно сказать, что мы, по большому счету, живем в иллюзии, в модели этого мира, которая создается внутри нашей головы.
Это приводит к большому количеству всяких интересных казусов, когда мы видим то, чего нет, слышим то, чего нет. Скажем, мы сидим дома и ждем какого-то важного звонка, и любой шум вдруг интерпретируется как этот звонок. Мы буквально его слышим, хотя его на самом деле нет. Люди иногда слышат шаги у себя дома, в тенях видят силуэт маньяка с ножом и так далее. Это можно представить себе, как некий человек сидит в бункере глубоко под землей, ничего не слышит и не видит, не чувствует, что реально происходит за его стенами, и все, что человек получает в этом бункере, — это какие-то закодированные сообщения азбукой Морзе. Это буквально то, как выглядит окружающий мир для нашего мозга. То есть он получает от органов чувств просто порции последовательных сигналов, серии спайков, потенциалов действия, которые приходят к нему по зрительному нерву, по слуховому нерву и так далее. Затем этот человек, сидя в этой комнате и получая сигналы азбукой Морзе, пытается их декодировать и представить себе, как мог бы выглядеть мир снаружи, откуда приходят эти сигналы. Фантазии, модели, иллюзии, результаты деятельности мозга создают картину мира, в которой мы живем. И мы знаем, что эта картина интересна и сгенерирована как модель относительно реальности не только реальности вокруг нас, но и нашего внутреннего мира, нашей психики, нашего взаимодействия с другими людьми, социального мира, скажем так. И даже нашей памяти, нашего прошлого, поскольку наша память во многом тоже является результатом именно такого не совсем точного моделирования, с большим количеством огрехов, что зачастую приводит, например, к формированию ложных воспоминаний, когда человек уверен, что с ним что-то происходило, какое-то событие, или деталь того, что с ним происходило, на самом же деле все было совсем не так. Вот такие конфабуляции.
С точки зрения нашей жизни, адаптации к этому миру можно сказать так: в мире не существует цветов, в мире не существует запахов, в мире не существует звука. Это все субъективные вещи, которые создаются нашим мозгом. В итоге это помогает нам более-менее нормально жить и функционировать в этой реальности.
— Еще интересный вопрос. Осьминог, как только рождается, тут же умеет и знает, как маскироваться под окружающую среду, как менять окраску и форму своего тела, когда и сколько выбрасывать красящую жидкость в случае опасности и вообще, что представляет для него опасность, а что — нет, хотя ни мать, ни кто-либо другой его этому не учили. Значит, ему это дано изначально, так сказать, на подсознательном уровне. Наш мозг тоже обладает похожими знаниями и умениями изначально? Новорожденный ведь уже морщится от плохого запаха или от вкуса лимона. Почему мозг дает ему такие сигналы? Откуда эти знания?
— Это очень хороший вопрос. Ряд ученых считали, а кто-то и до сих пор в определенной степени придерживается таких взглядов, что любой рождающийся организм — это своего рода белый лист и все его поведение формируется в результате обучения. Еще каких-то 50 лет назад это было мейнстримом, тем, о чем все говорили. Это течение называется бихевиоризмом. Один из его основателей Джон Уотсон так и говорил: «Дайте мне 11 младенцев, у которых нет никаких врожденных особенностей поведения, дайте мне возможность делать с ними все что угодно, и я смогу из одного сделать президента, из второго — врача, из третьего — преступника». То есть получается, что ни у человека и ни у кого-либо из животных нет никаких врожденных качеств.
Потом, естественно, стали накапливаться данные сначала по насекомым. Абсолютно удивительные вещи они могут делать. Например, оса-наездник может найти гусеницу, точно знает, куда ей нужно сесть, где находится узел, чтобы парализовать эту гусеницу, очень сложная сама по себе задача, как потом туда ввести свои личинки, что потом с этой гусеницей делать, чтобы она не умерла и личинки могли там нормально развиваться. И это очень сложное поведение у нее абсолютно врожденное. То есть оно полностью определяется генетически. То же самое касается термитов. Когда они строят огромный термитник несколько метров в высоту, форма термитника и то, как его надо строить, тоже определяются генетически. Никто термитов этому всему не учит. Они не проходят строительные курсы, где им рассказывают, каким должен быть термитник, какой высоты, формы, из каких материалов и как именно его строить, кто будет руководить и кому подчиняться в ходе строительства. Это все инстинктивное поведение.
Но мы знаем, что во многом все, что находится в работе нашей нервной системы, — это результат взаимодействия и генов, и среды. Когда человек рождается, его органы чувств несовершенны. Какие-то из них, например слух, сразу начинают нормально функционировать еще внутриутробно, где-то с 27-й недели внутриутробного развития, а какие-то, тот же вестибулярный аппарат и зрение требуют калибровки. Они уже работают неплохо, но им есть куда стремиться и совершенствоваться. Они уже достаточны, например, для того, чтобы ребенок мог какие-то цветовые пятна различать, но нужно добавить резкости и контраста. Это как с микроскопом или с камерой, когда мы постепенно на что-то наводимся, чтобы добавить резкости. Глаз ребенка начинает этим заниматься, тренируется в течение первых недель своей жизни.
То же самое касается вестибулярного аппарата. Именно поэтому детям нравится, когда их укачивают. То же самое происходит не только у наших детей. Это происходит и у приведенных вами осьминогов, приматов и всех других животных. Просто эти периоды критической настройки систем происходят у них быстрее, чем у человека. Многие из них больше смещены в эмбриональный период. Но все равно это всегда присутствует. Мы знаем, что почти у всех животных, даже у самых простых, есть понятие адаптации. Таким образом, идея о том, что есть инстинктивное, врожденное поведение имеет свои плюсы, потому что организм сразу рождается уже готовым к жизни, чтобы делать очень сложные вещи в очень опасном мире. Например, насекомым не нужно долгое детство, когда родители должны за тобой ухаживать, и прочие вещи.
С другой стороны, адаптация полезна, поскольку организм в меняющихся условиях может приспособиться к ним быстрее. Та же оса, если гусеница как-то изменится, сама вряд ли быстро научится тому, куда ей теперь надо вонзать жало и откладывать личинки. В итоге она не сможет отложить личинки, съесть эту гусеницу и так далее. У нее возникнут проблемы, и она просто умрет. С другой стороны, если бы она могла подумать и сказать: «Ага, мой опыт прежнего взаимодействия показывает, что я должна бить своим жалом чуть-чуть ниже», — запомнила бы это и потом дальше этим пользовалась, то получила бы реальное преимущество. Получилось бы, что условия изменились и она к ним адаптировалась. Эта адаптация или обучение присутствует даже у самых простых одноклеточных организмов. В очень примитивной форме и очень слабое, но даже у них это есть.
И дальше с появлением нервной системы, усложнением нервной системы, способность к обучению только улучшается. Сейчас мы знаем, что головоногие моллюски, особенно осьминоги, птицы врановые (или вороновые), приматы среди млекопитающих, даже насекомые (особенно пчелы и муравьи), демонстрируют способности к тому, чтобы запоминать и обучаться очень сложным вещам.
— Каким, например?
— Речь идет об абстрактных понятиях. Например, больше или меньше, похожее или непохожее, запоминание каких-то цветов, способность к счету, способность решать новые задачи, с которыми ранее не сталкивались, то есть способность к логическому мышлению. У всех это сохраняется, просто в количественном плане человек по этим параметрам, по способности к обучению превосходит всех остальных животных очень сильно. Не качественно, а именно количественно, точно так же как у нас очень хорошо и сильно развита способность к адаптации, к обучению, у нас есть какие-то врожденные вещи.
У нас не так много инстинктивного поведения, но какие-то вещи у нас все же есть. Например, мы знаем, что ребенок тянется к матери. У него есть какое-то врожденное представление о том, что хорошо и что плохо. Как правильно сосать грудь матери. Или, например, страх перед некоторыми объектами. Тот же врожденный страх высоты или страх потери опоры, скажем так, которому дети не учатся. Понятию того, что наше пространство трехмерное, пониманию того, кто является представителем нашего вида, а кто — нет, к кому нам нужно тянуться (в том числе в романтическом плане), а к кому — нет. Это тоже является врожденными характеристиками. Они все жестко закреплены. Их буквально можно описать как некие инстинкты.
Есть менее жесткие вещи, которые являются так называемыми врожденными предрасположенностями. Скажем, есть представители нашего вида, у которых характер более импульсивный, чем у других людей. Какие-то люди больше склонны к музыке, у них лучше получается ею заниматься, а у кого-то это точные науки. Все эти вещи во многом имеют сильный врожденный компонент. Иногда это доходит даже до уровня патологии, когда мы говорим о расстройстве личности. Иногда это является просто какими-то акцентуациями, но исследования в данной области показывают, что они различимы уже в самом раннем детстве. Порой мы видим брата и сестру или двух братьев, которые очень сильно отличаются по характеру. Не потому, что их как-то по-разному воспитывали родители, не потому, что они сталкивались с какими-то разными по отношению друг к другу событиям в своей жизни, а по той причине, что их врожденные характеристики, которые определяются генами и внутриутробной средой, то есть на уровне гормонов матери (уровнем глюкозы, инсулина, тестостерона, кортизола и так далее) будут потом обеспечивать их особенности. Они определят, у кого будут какие склонности к психическим заболеваниям, у кого какая особенность реагирования в той или иной ситуации.
Ну и наконец, наверное, стоит сказать, что социальное обучение, воспитание от родителей с одной стороны не так много роли играет в том, как формируется поведение детеныша и ребенка у человека, с другой — это обучение, когда смотрят на то, как кто-то другой что-то делает, не является исключительно человеческой особенностью. Да, дети, глядя на то, как другой человек, особенно взрослый авторитет, что-то делает, это запоминают и потом это повторяют. Но мы видим, что это же способны делать и приматы, и птицы, и даже рептилии. Есть работы, которые показывают, что на это способны даже шмели. Они, наблюдая за тем, как что-то делают другие шмели, потом это же самое повторяют. Если они видят, как что-то делает робот или человек, то они на это не реагируют. Это же характерно в том числе и для головоногих моллюсков.
В качестве саммари можно сказать, что сейчас представление о поведении следующее. Есть врожденный компонент, скажем так, жесткие чертежи, которые обеспечивают не идеальное, но все же достаточное приспособление к окружающей среде. Если бы человек рождался и абсолютно ничего не знал об этом мире, то он бы и обучаться в нем не смог. Когда у тебя нет представления даже о том, что такое верх и низ, что такое постоянство объекта, которым не учат, то человек вряд ли был бы тем, кем мы являемся сегодня. Все это формируется где-то около двухмесячного возраста, но обычно этому не учат.
Многие думают, что это возникает в результате какого-то обучения. На самом деле нет. Идет просто дозревание нервной системы. Если мы не видим какого-то объекта, это не значит, что он исчез куда-то, что он разрушился. Эти вещи являются врожденными. Как и некоторые наши страхи, влечения, особенности. Но потом наш опыт продолжает это развитие и подстраивает всю эту систему чуть точнее под то, в какой среде мы находимся. Эта пластичность, конечно, зависит от того, о ком мы говорим. Достигает своего максимума она именно у человека по сравнению с другими животными.
 «Мы уже говорили о сосании груди ребенком — его ведь никто не обучает, как правильно потреблять молоко. То же самое, никто не обучает человека, как жевать пищу, как ее глотать. Здесь мы видим врожденную программу поведения»
«Мы уже говорили о сосании груди ребенком — его ведь никто не обучает, как правильно потреблять молоко. То же самое, никто не обучает человека, как жевать пищу, как ее глотать. Здесь мы видим врожденную программу поведения»
«Есть какие-то вещи в поведении человека, которые являются инстинктивными»
— Ученые говорят, что у человека нет инстинктов, а есть врожденные потребности, которые являются результатом сложного взаимодействия биологии, обучения и культуры, а не жестких врожденных программ. Но немецкие врачи в концлагерях проводили эксперименты, когда человека доводили практически до животного состояния (в частности, морили голодом) и у него проявлялись те же инстинкты, что и у животных. Похожие эпизоды фиксировались и в блокадном Ленинграде, когда даже у весьма ученых и культурных людей начинали работать эти самые «жесткие врожденные программы» (то есть инстинкты). Так мы все-таки животные, приматы, живущие коллективно в придуманном и отягощенном условностями обществе, и у нас есть животные инстинкты, просто они глубоко запрятаны под культурными наслоениями или мы нечто другое?
— Вопрос инстинктов заключается в том, что, собственно, мы хотим разграничить, на какой вопрос хотим ответить на самом деле. Почему? Потому что большинство людей, которые поднимают вопрос инстинктов, до сих пор находятся в концепции энвайронментализма и считают, что поведение людей полностью определяется средой. Такой бихевиористский подход, который говорит: в том, что ты чего-то боишься, или в том, как ты реагируешь на внешнюю среду, виновато, предположим, твое воспитание, родители и так далее. В широком смысле это, например, доходит до того, что в болезни ребенка шизофренией винят мать, что она как-то не так с ним обращалась, или в том, что у ребенка расстройство психического спектра, тоже виноваты родители, которые тоже как-то не так воспитывают, или среда какая-то. То есть полное исключение влияния врожденных особенностей человека.
Но мы понимаем, что это не так. Современная наука уже серьезно на такие вещи не смотрит. Для этого достаточно посмотреть на различия в поведении человека и шимпанзе. Они будут всегда, независимо от того, какая вокруг них будет среда, или какие вы специально создадите условия. Более того, даже два человека, воспитанные в абсолютно одинаковой среде, тоже будут отличаться, потому что фактор генетики никуда не уходит. В этом плане он всегда остается.
Другой момент — по поводу инстинктов. Действительно, есть определение инстинктов как жесткой программы поведения. По сути, Павлов вообще это определял как цепочку безусловных рефлексов, которые реализуются. То есть все представители вида будут делать одно и то же. Стереотипные действия, абсолютно одинаковые. Но интересно, что даже в таком плане это определение может быть применимо, наверное, только к некоторым беспозвоночным, особенно к членистоногим и насекомым. И все. Если мы возьмем даже млекопитающих, мы не увидим такого. Мы увидим, что у каких-нибудь мышей обязательно абсолютно стереотипное, абсолютно одинаковое, видоспецифичное поведение, которое постоянно реализуется в одной и той же ситуации у всех и абсолютно не зависит никак от их опыта? Нет. Все равно у них есть какая-то особенность, какая-то индивидуальность, зависящая, например, от того, что эта мышь повидала в своей жизни, то же самое, как и у человека.
Поэтому мы знаем, что есть какие-то вещи в поведении человека, которые являются инстинктивными. Например, мы уже говорили о сосании груди ребенком — его ведь никто не обучает, как правильно потреблять молоко. То же самое, никто не обучает человека, как жевать пищу, как ее глотать. Здесь мы видим врожденную программу поведения. Достаточно сложную, поскольку есть огромное количество мышц, которые должны работать в правильном порядке. То есть сначала мы жуем зубами, перемешиваем языком со слюной и только потом глотаем. Не в обратном порядке, и никак иначе. Никто в мире серьезно не относится к тому, что люди должны этому как-то специально обучаться. Что должны быть какие-то школы, где родители показывают, как это все правильно делать. Ничего этого нет.
— И половая программа в нас тоже заложена изначально? Среди базовых инстинктов ведь значатся самосохранение (выживание и защита себя), пищевой (позволяет удовлетворить голод) и половой (инстинкт продолжения рода). Или нет?
— Да, то же самое касается полового поведения. У нас же не возникает полового влечения к представителям какого-то другого вида, за исключением некоторых патологий. Почему? Откуда это? Никто ведь нас не обучает этому специально и не говорит, что ты должен жениться или выходить замуж только за человека. Не за кота или собаку, а именно за человека. На самом деле людей к этому и не тянет. Почему? Потому что образ твоего полового партнера тоже заложен врожденно. И, более того, то, как происходит сам половой акт, тоже является инстинктивной программой. У наших далеких предков, когда они были молодыми людьми, когда не существовало письменности, культуры, не возникало вопросов, как осуществить половой акт. Откуда они это знали? Можно, конечно, фантазировать, что они где-то, как-то это видели, запомнили, но нет.
Из многочисленных экспериментов на млекопитающих мы знаем, если мы возьмем самца млекопитающего и самку, которые до этого жили отдельно, и посадим их вместе, то у них не возникнет вопросов, как продолжить свой род. Является это инстинктивной программой? Да, конечно. Потому что это тоже очень сложная программа поведения, которая задействует много стадий, и они должны располагаться в определенной последовательности друг относительно друга. Это все тоже требует очень сложной координации. Существуют виды, например, птицы, особенно голуби какие-нибудь, у которых есть некоторые ритуалы того, как самец должен обхаживать самку, запуская что-то вроде брачного танца. Эти танцы являются видоспецифичными. Орнитологи называют их этограммами, то есть врожденными программами, которые очень строго прописаны и по которым можно отличить один вид птиц от другого.
У человека такого нет. Но возникает вопрос: зачем так жестко прихватываться к теме инстинктов? Хорошо, мы смягчим формулировку, скажем, что у человека есть врожденные предрасположенности, которые имеют характер инстинктов, не требующие обучения сами по себе, то есть очень жестко видоспецифично закрепленные в нас, и чем больше мы на это смотрим, тем больше видим. При этом все наше поведение во многом все равно имеет какой-то врожденный компонент. То есть нет ни одного психического события в жизни человека, которое появлялось бы только в результате обучения, которое имело бы только компонент средового воздействия. Тому, как навредить другому человеку, мы тоже не обучаемся. Как драться или как плавать в воде, в первом приближении ребенок тоже знает и умеет. Не в идеале, конечно. Всегда можно научиться лучше плавать или лучше драться, но в нас все равно это заложено. Чем это тоже не инстинкт, когда ребенок плавает по-собачьи? Тоже очень сложное координационное действие.
Когда же мы говорим о ситуации, когда человек, скажем так, доходит до ручки и превращается в животное, то здесь мы находим отголоски древнего представления о том, что внутри человека есть три личности. Рациональная личность, такой мозг примата, есть животная личность, очень эмоциональная, плохо себя контролирующая (такая лимбическая система, связанная с мозгом низшего млекопитающего, назовем его мозгом мыши), и третья — ядро инстинктивных программ, связанное со стволом головного мозга (назовем его мозгом рептилии). Это концепция триединого мозга Пола Маклина. Она очень популярна у психологов.
С опорой на нее идет противопоставление, что у нас есть рациональная часть, особенно неокортекс (префронтальная кора), которая крутая, классная, и есть плохие части. Это эмоциональная часть (лимбическая система, ствол мозга), с которой надо бороться. И что, когда мы что-то делаем, у нас включается мозг млекопитающего, мышь внутри нас начинает говорить и человек должен ее подавить. Тогда мы будем вести себя рационально, нормально, как люди, а не как мыши. В ситуации какого-то серьезного стресса, какого-то серьезного повреждения, усталости у личности человеческая часть начинает работать хуже, а внутренняя мышь, напротив, активируется. В итоге это приводит к тому, что человек ведет себя неадекватно, у него проявляются инстинктивные программы поведения. Он превращается в животное.
— Это действительно так?
— Нет, конечно. Мыши бы обиделись, если бы мы так сказали. Почему? Потому, что мы дословно говорим: «Мыши ведут себя нерационально и неадекватно». Но это же не так. Мы знаем, что мыши ведут себя вполне адекватно той среде, в которой они живут, и вполне себе справляются со своими биологическими задачами. Та ситуация аффекта, в которой человек находится, совсем не соответствует утверждению, что у него рациональная часть отключается и мышь преобладает. У него в целом мозг начинает работать плохо. У него нарушается работа и коры больших полушарий, и этой лимбической структуры, и ствола головного мозга. По сути, человек не превращается в животное, а сходит с ума. И животные в каком-то смысле тоже могут сойти с ума. Поэтому это не реактивация инстинктивных программ, а скорее поломка, когда как сломанный компьютер человек начинает выдавать свершено неадекватное поведение. Это может проявляться в том, что он становится каким-то слишком послушным, проявляются какие-то другие психиатрические симптомы.
У мышей, тем более у других млекопитающих и даже у головоногих моллюсков, ничего подобного нет. Они вполне контролируют свои импульсы, свои позывы и могут учиться контролировать себя в некоторых ситуациях, если это нужно. Поэтому не нужно нападать на этих несчастных животных.
— Кстати о мышах. В рамках международного проекта MICrONS ученые впервые совместили «проводку» мозга мыши с записями работы тысяч клеток во время обработки зрительных сигналов. Результаты, опубликованные в журналах Nature, открывают новые возможности для понимания принципов работы мозга и разработки нейротехнологий. Кубический миллиметр мозговой ткани — примерно, как зерно сахара — оказался «вселенной» из 200 тысяч клеток, включая 82 тысячи нейронов. Эти клетки связаны 500 миллионами контактов, а общая длина их «проводов» (аксонов и дендритов) превышает 4 километра. Для сравнения: аналогичный объем человеческого мозга содержит в 5 раз меньше нейронов. Почему? Мы что, тупее мыши или у нас медленнее проводки проходят?
— У нас правда в коре плотность нервных клеток меньше. Но это не плохо, а, наоборот, хорошо, потому что наши нейроны крупнее и у них больше связей. Очевидно, что у нас нейронов на несколько порядков больше, чем в мозге мыши в целом, и тем более если мы будем сравнивать кору и особенно неокортекс человека и мыши. Наши нейроны больше, они работают эффективнее. Дело не в количестве клеток, а в их качестве. Они могут получать больше сигналов. То есть у наших нейронов больше контактов может приходить. Каждый нейрон может интегрировать гораздо больше входных стимулов. Кроме того, они могут дольше работать на очень высоком уровне своей активности и выдавать гораздо большую частоту своей активности, чем нейроны, которые есть в мозге у мыши. Поэтому в этом плане просто плотность клеток — это суррогатный показатель. Нужно смотреть на очень многие другие вещи.
Но, вы правильно сказали, сложность колоссальная. Недавно совсем был построен коннектом (полное описание структуры связей в нервной системе организма — прим. ред.) мозга круглого червя, который размером в несколько миллиметров. У него всего 302 нейрона, но для того, чтобы построить связь этого количества нейронов между собой, потребовалось несколько десятков лет. Соответственно, в мозге мыши сотни миллионов нейронов, а в мозге человека порядка 100 миллиардов нейронов, и у каждого нейрона от тысячи до 10 тысяч связей с другими. Попробовать это все как-то посчитать, посмотреть даже в одном кубическом миллиметре было бы огромной удачей. Недавно опубликованы такие работы.
Был обработан всего лишь один кубический миллиметр из 1,5 тысячи кубических сантиметров. На это потребовались усилия нескольких лабораторий в течение нескольких лет. Там совершенно колоссальная сложность. В этом плане идея, что можно смоделировать мозг человека и что-то понять, еще очень далека от своего осуществления. Европейский проект ставил перед собой такую задачу, но в итоге получился только один кубический миллиметр.
 «Для нас очень важно иметь высокий интеллект. В рамках полового отбора и вообще в принципе нашей жизни это всегда играло очень большую роль. Чем человек умнее, тем он лучше справляется с жизнью, то есть добывает ресурсы, заботится о потомстве»
«Для нас очень важно иметь высокий интеллект. В рамках полового отбора и вообще в принципе нашей жизни это всегда играло очень большую роль. Чем человек умнее, тем он лучше справляется с жизнью, то есть добывает ресурсы, заботится о потомстве»
«Все определяется не какой-то химией мозга, а сетью»
— У одного ученого прочел такую фразу: «Наши чувства, мысли, эмоции зависят не только от биохимии нашего организма». А от чего еще?
— У ученых, которые занимаются поведением человека и нейробиологией, есть понимание того, что наше поведение — это продукт нашего мозга. Все в данном плане зависит от того, как эти нервные клетки, как эти 100 миллиардов между собой общаются. Из этого общения, из этого шепота между ними как раз и возникает все наше сложное поведение, наша личность, такие сложные и необычные феномены, как любовь, наша память и так далее. Но здесь появилась некая концепция.
Раньше мы думали, что все можно объяснить каким-то отдельным физическим веществом. Была такая концепция, что дофамин — это вещество удовольствия и мотивации. Соответственно, достаточно человеку повысить дофамин, он будет мотивирован и испытывать при этом удовольствие. Радость связана с серотонином. Соответственно, у человека с депрессией просто мало в организме этого серотонина, сейчас мы ему его подкрутим, и депрессия отступит. Более того, здоровый человек без депрессии, как только получит дополнительный заряд серотонина, тоже станет счастливым. Тестостерон влияет на уровень агрессии у человека. Повысим его уровень в организме или понизим, тем самым будем влиять на агрессивное поведение людей, импульсивность, концентрацию внимания. Будем повышать у него уровень ацетилхолина, он будет быстрее обучаться.
Все это было связано с бурным развитием психофармакологии в конце ХХ века. И даже были программы, которые на серьезном уровне рассматривались, что мы можем сейчас взять, создать такой коктейль, например, для британских школьников и они станут лучшей версией себя. Станут меньше отвлекаться на уроках, будут лучше учиться, меньше безобразничать и так далее. Более того, были такие списки, которые и сейчас существуют, что окситоцин — это гормон любви, вазопрессин — гормон верности и привязанности — и огромное количество таких заблуждений.
Сейчас мы понимаем, что это вообще не так. Что у каждого нейромедиатора огромное количество разных функций и процессов, в которых он участвует, и нельзя свести нейромедиатор к какой-то одной конкретной функции. То есть это все зависит не только от областей головного мозга, где он работает, но даже от рецепторов, которые находятся в этих клетках. Мы понимаем, что, давая человеку с депрессией антидепрессанты, мы не улучшим ему настроение. То же самое: если мы будем повышать уровень дофамина в мозге человека, это не приведет к тому, что у него повысится концентрация и он испытает какое-то удовольствие.
Оказалось, что психика человека не сводима просто к уровню какого-то нейромедиатора в мозге. Это гораздо более сложный процесс. Это перешло на уровень коннектом. Все определяется не какой-то химией мозга, а определяется сетью. Так же как у нас сейчас есть нейросети, какие-то сложные информационные программы. Часто проводят аналогии с компьютером. Даже с квантовым компьютером. Что эта сеть — коннектом, а точнее, ее свойства, как раз и определяют то, как она работает. А это очень сложно. Сложно понять, как это работает даже у одного маленького червячка, о котором я уже говорил. Более того, некоторые авторы говорят, что коннектома недостаточно. По их мнению, это сложная интегрированная система, в которой играет роль химия, то есть нейромедиаторы, выделяемые рецепторами, связанность, как нервные клетки связаны между собой, и, конечно, играет роль генетика. То есть то, как работают гены внутри самих этих нервных клеток. И то, что называется эпигенетикой.
Кто-то идет еще дальше и говорит, что одних нейронов недостаточно. Что здесь еще большую роль играют глиальные клетки, например астроциты. Можно представить себе, насколько сложная получается система. Некоторые авторы говорят, что мозг работает как объект с 10 тысячами измерений.
— Что это значит? О каких измерениях идет речь?
— Это, конечно, не так, что у нас такое количество разных измерений в мозге возникает. Просто, когда мы пытаемся понять, почему нервная клетка у нас активировалась в данный момент (даже не почему человек любит другого человека), почему именно эта клетка вдруг зажглась, нам нужно проанализировать десятки тысяч разных факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому мы не можем сразу сказать, почему именно эта клетка сейчас зажглась. Это очень большая сложность.
Но это не значит, что с точки зрения естественной науки это невозможно объяснить. Что это никогда невозможно будет смоделировать, понять или управлять работой головного мозга. Простые вещи мы уже можем делать. Это связано и с некоторыми успехами психофармакологии, и с другими методами. Например, с оптогенетикой, когда с помощью света идет активация нервных клеток и их модуляция. С помощью электрофизиологии. Интерфейс и мозг-компьютер, которые сейчас получили второе дыхание с подачи Илона Маска и Neuralink.
Это, во-первых, технология одновременного получения информации (по сути, считывания мыслей), а во-вторых, это технология управления мозгом, потому что можно обратно в мозг какую-то информацию подавать и регулировать его активность, например, лечить психические заболевания, то, что достигается глубокой стимуляцией мозга. Либо в том числе сделать так, что человек будет слышать что-то или видеть что-то. Например, идея Neuralink заключается в том, чтобы сделать возможным просмотр фильма просто через подачу сигнала напрямую в головной мозг. Это то, что сейчас уже происходит. Это успехи, связанные с лечением психических заболеваний с нарушением нейроразвития, нейродегеративных заболеваний, восстановлением после инсультов и так далее. Мне кажется, что в этом направлении все так и продолжит двигаться.
— У вас же есть работа об оптогенетике — методе, позволяющем управлять воспоминаниями, поведением, потребностями и эмоциями за счет активации специфических ансамблей клеток. Например, избирательное стирание воспоминаний. То есть мы уже можем делать все то, что показано в известном фильме со Шварценеггером «Вспомнить все»?
— На уровне животных, да. Там уже есть очень много разных способов стирания воспоминания. Мы уже можем избирательно удалить какой-то фрагмент памяти без общего нарушения способности к запоминанию, формированию воспоминаний и не затрагиваем каких-то других элементов памяти животного. И есть способы создания ложных воспоминаний. Например, самые первые оптогенетические работы, когда животное думало, что в определенной камере ее били током, чего на самом деле не происходило. Животное тревожилось, когда его помещали в эту камеру, хотя там с ним ничего не делали. Такое ложное воспоминание ему создали. Можно также воспоминание о чем-то хорошем сделать.
Есть работы по переносу воспоминаний. Они более примитивные, например, на моллюсках аплизиях, когда от одного моллюска у другому переносили тревожность просто за счет молекул некодирующей РНК. Если взять эти молекулы от тревожной аплизии, которая пережила тревожные события и перенести другой аплизии, то она тоже будет чуть тревожной.
Более сложные работы показывают, что, возможно, есть какой-то способ передачи более сложных компонентов памяти от одной крысы к другой. Например, одна крыса бегает по лабиринту, изучает его, а потом другая крыса, которая не обучалась, бегает в лабиринте одновременно с обученной и получает ее сигналы мозга. То есть сигналы мозга обученной крысы передаются в мозг необученной, и та начинает лучше проходить этот лабиринт. Это уже определенный шажок, как в «Матрице». Пришел студент, ему поставили флешку, загрузили память о первом и втором курсах университета, и он пошел домой отдыхать.
Здесь, конечно, есть очень много проблем, прежде всего потому, что это все не всегда можно проецировать на человека, поскольку многие вмешательства очень травматичны или несут какие-то очень большие риски. Могут повреждаться когнитивные способности, психологические заболевания возникать или даже смерть может наступить. Поэтому пока очень многие из этих методов остаются на животных моделях.
И вторая проблема заключается в том, что на животных моделях, как и в случае условных рефлексов, работа идет с очень простыми формами памяти. То, что мы можем создать ложные воспоминания у мыши, что ее где-то били током, что ей должно быть страшно в этой ситуации, — одна история. Сможем ли мы таким же способом создать нечто подобное у человека — это совсем другая история. Это своеобразная пропасть, которую предстоит преодолеть. Представляется, что теоретически проблем с этим быть не должно.
— У вас есть еще очень любопытная работа под названием «Интеллект, юмор и секс: что их объединяет и правда ли, что смех — это „глюк“ мозга?». Почему у кого-то есть чувство юмора, а у кого-то нет и почему это глюк мозга? Расскажите, пожалуйста, об этом.
— Для нас очень важно иметь высокий интеллект. В рамках полового отбора и вообще в принципе нашей жизни это всегда играло очень большую роль. Чем человек умнее, тем он лучше справляется с жизнью, то есть добывает ресурсы, заботится о потомстве. Поэтому на протяжении нашей истории что мужчинам, что женщинам привлекательными казались всегда умные люди. Именно поэтому мозг человека так быстро рос. За 2,5 миллиона лет он вырос в 3 раза с 400 кубических сантиметров до 1,5 тысячи и даже больше.
Как проверить интеллект человека? Наши предки же не могли дать какое-то специальное интеллектуальное задание, IQ-тест для выявления этого. Поэтому смотрели либо на то, как человек справляется с каким-то обучением или придумывает какие-то новые формы культуры (например, как правильно камень скалывать, чтобы получился нож), либо это было что-то еще, что ты можешь постоянно экспрессировать в своей повседневной жизни, но что будет хорошим индикатором того, что у тебя высокий интеллект. Оказалось, что это чувство юмора.
— Почему?
— Потому что чувство юмора требует, чтобы у человека был достаточно высокий интеллект, чтобы он понимал, чего хотят, чего ожидают, что будет смешно для окружающих. Далее с этим он должен оценивать обстановку и придумать способ донести свою шутку, правильно ее сформулировать, чтобы всем было смешно. Это очень незаурядная задача, поэтому научиться быть смешным и выработать в себе чувство юмора невозможно. Можно запомнить какие-то шутки, можно запомнить какие-то элементы построения шутки, чтобы она выглядела более смешной, но эти спонтанные способности выработать не получается. Если у человека нет чувства юмора, то он и не чувствует каких-то вещей. Если человек не понимает шутку, то у него не хватает когнитивных способностей, чтобы ее проанализировать и понять, что же там такого смешного есть. Так это и работает. Поэтому неудивительно, что чувство юмора для мужчин так важно. Хорошее чувство юмора — это способ быть привлекательным для противоположного пола и завоевывать их сердца.
Фраза «смех — это глюк мозга» принадлежит не мне. Мы смеемся, когда встречаемся с чем-то, что имеет какое-то расхождение с действительностью. Например, какая-то ситуация тревожная, человек падает. У нас формируется восприятие, что он сейчас упадет и какую-то серьезную травму получит. Мы напрягаемся. Но в следующий момент он падает на попу, встает, отряхивается — и ничего страшного не произошло. Этот контраст между тем, что готовилось что-то ужасное, а закончилось ерундой, вызывает у нас смех. Это некий релиз нашего мозга, когда освобождаются определенные эмоции, которые в нем были накоплены. Своеобразный вздох облегчения. Рассогласование произошло, которое он заметил.
На этих принципах часто юмор и строится. На том, что формируется какое-то ожидание, а потом оно обманывается. На этом обмане ожиданий человеку становится смешно. Возникает неконтролируемая реакция. Это очень интересно. Почему? Потому что при смехе мы обнажаем зубы, а в царстве приматов это признак агрессии. То есть ты показываешь, что можешь покусать. Но в этом тоже состоит юмор. Когда приматы демонстрируют свои клыки, у них есть два варианта этой демонстрации. Либо они демонстрируют, что это серьезная опасность и будет драка, либо, несмотря на то что тебе клыки показывают, примат настроен благодушно, дескать, давай дружить. Сам смех, форма смеха, то, откуда он возникает, исходит из того, что наш мозг сталкивается с такими забавными парадоксами, от которых ему хорошо и от которых мы испытываем удовольствие.
— А у животных есть смех, они умеют смеяться? У обезьян, лошадей, например, мы видим эмоции, похожие на смех. Или как они искренне удивляются, когда им показывают фокусы с исчезновением или появлением предметов. В частности, кошкам и собакам. И сны они видят. Бегут во сне, дерутся и так далее. Что это?
— Нет. То, что нам кажется, что они смеются или улыбаются, не значит, что они эту эмоцию действительно испытывают. У животных есть своя мимика. Есть большие хорошие работы по анализу мимики тех же мышей или кошек, которые отличаются от нашей. Они реагируют на совсем другие вещи, чем мы. То, что нам кажется смехом у приматов, у лошадей, улыбкой у других домашних животных, — это совсем не то, что наша с вами улыбка и наш с вами смех. При этом они могут смеяться. У них есть аналоги проявления удовольствия подобного рода. Например, мыши могут издавать веселые писки. Была такая очаровательная работа, где с крысами играли в прятки, и они очень веселились, им было очень приятно. Но у них своя мимика, свой писк веселый, крысиным смехом мы могли бы назвать. Просто он не соответствует нашему, потому что мы нашли свой отдельный эволюционный путь и у нас свои сигналы. А другие животные пошли своим эволюционным путем и у них свои сигналы на этот счет. Не надо обманываться.
Есть интересная работа, которая показывает, что так называемый щенячий взгляд, когда собачка буквально заглядывает вам в душу, просит что-то, как человек, на самом деле совсем не то. Оказалось, что в линии домашних собак эволюционно появилась отдельная мышца, которая позволяет им вот так менять мимику и существует только для того, чтобы воздействовать на людей. Сами собаки эту эмоцию не считывают у себя с морды и с морд других собак. Это развилось исключительно для того, чтобы манипулировать человеческим поведением.
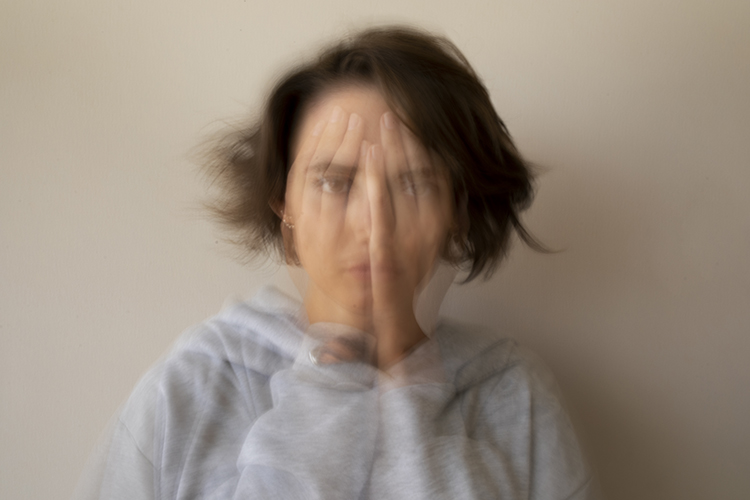 «Два человека, у которых клиническая депрессия, подтвержденная многими специалистами, могут сильно отличаться»
«Два человека, у которых клиническая депрессия, подтвержденная многими специалистами, могут сильно отличаться»
«Как мы можем редактировать человека, у которого мы не можем спросить, согласен ли он на это редактирование?»
— Большое депрессивное расстройство (БДР/MDD — Major Depressive Disorder, оно же «клиническая депрессия») — состояние, при котором теряется настроение, появляется подавленность и отсутствует смысл жизни (и удовольствие от нее). Ничего не влечет, ни запах и вкус еды, ни противоположный пол, никакие другие удовольствия, не говоря уже о смыслах. Это заболевание охватывает около 300 миллионов человек на Земле. Каков его механизм, что и почему блокируется?
— Это очень сложный вопрос. Раньше мы думали, что можно все это объяснить с химической точки зрения, что шизофрения — это избыток дофамина, а депрессия — недостаток серотонина. Но проблема оказалась не только в том, что сложно с точки зрения нейрофизиологии объяснить, что там происходит. Есть теории гормональные, есть теории о рассинхронизации работы гипоталамо-гипофизарной оси, есть работы, в которых видят проблемы в нарушении половых гормонов, есть работы, в которых связывают это с нейровоспалением в мозге, которое формируется, и так далее.
Но самое главное, что депрессия сама по себе очень разная. Есть огромное количество работ, которые выделяют различные фенотипы симптоматической депрессии. Два человека, у которых клиническая депрессия, подтвержденная многими специалистами, могут сильно отличаться. Один будет испытывать очень серьезный аффект. У него будет очень сильная тоска, пониженное настроение, мысли о суициде. А у другого будет просто нарушение аппетита и нарушение сна. И у того и у другого депрессия. Очевидно, что здесь задействованы разные механизмы, разные области мозга, разная нейрофизиология, почему это все происходит, и, возможно, поэтому данным людям будет помогать разная терапия. Поэтому не всем помогают антидепрессанты, психотерапия, электросудорожная терапия.
Нам еще предстоит выяснить, почему человек перестает испытывать удовольствие от пищи. Есть общая эволюционная гипотеза, согласно которой депрессия — это адаптация к постоянному стрессу. Сначала предшествует очень сильная тревога, которая вызывает постоянную дрожь, активацию симпатической системы, кровеносной системы, нарушение в работе иммунной системы и так далее. И защитной реакцией на такой стресс является формирование вот такого безразличия ко всему, своеобразной накидки, толстого пледа, который кидается на тлеющий костер, чтобы это все подавить. Но это все приводит к подавлению мотивации и снижению скорости мышления, общей заторможенности, в какой-то степени эмоциональной тупости и так далее. Ангедония — это неспособность испытывать удовольствие.
Но это просто одна из гипотез, потому что мы знаем, что не всегда депрессии предшествует период развитой тревожности. И не всегда есть какие-то внешние факторы, которые вызывают депрессию. Иногда бывает так, что все хорошо было с человеком, а потом бац — и он оказался в этом состоянии. Если мы все это до конца изучим, есть шанс, что появится какое-то универсальное эффективное лекарство от этого состояния.
— Еще одна ваша работа называется «Можно ли отредактировать гены у взрослых и не навредит ли это потомству?». Этим сейчас кто-то занимается на практике или это запрещено?
— Это все происходит в рамках клинических исследований, иногда даже в постоянной практике заболеваний, в основном соматических. Например, у человека есть недостаток каких-то ферментов печени, почечного фермента или поджелудочной железы. Есть какие-то заболевания, связанные с генотерапией, например, муковисцидозом или миодистрофией. Но это никак не влияет на потомство. Даже если это могло бы как-то передаться потомству, это, наоборот, было бы хорошо, потому что генотерапия направлена на исправление генетических поломок, которые приводят к тому, что у человека формируются заболевания. Но это не может передаться потомству, потому что ему передаются гены от половых клеток, которые в этот момент редактированию не подвергаются. Подвергается редактированию только какой-то конкретный орган, точнее, небольшая часть этого органа и не все клетки этой небольшой части органа.
Есть другие варианты редактирования, которые связаны с редактированием эмбрионов. Когда генетически редактируется эмбрион или даже до эмбриона — зигота, или половая клетка, то в этом случае гены исправляются во всех клетках будущего человека. В этом случае свои исправленные гены он передаст и своему потомству. То есть они у этого человека будут исправлены и в половых клетках. Из наиболее известных технологий, связанных с генетическим редактированием, сейчас CRISPR-Cas. Пока она не применяется на людях, хотя есть попытки так сделать, например, для лечения врожденной глухоты, в том числе в нашей стране. Специалисты из РНИМУ имени Пирогова предлагали такой проект.
Но есть уже готовые работы в Китае, когда они создавали таким образом девочек, устойчивых к ВИЧ, убирая у них ген CCR5 — по сути, входные ворота ВИЧ. Эта технология становится все более и более безопасной, и некоторые говорят, что она уже достаточно безопасна для того, чтобы ее можно было использовать на людях. Но всегда остаются этические вопросы. Например, как мы можем редактировать человека, у которого мы не можем спросить, согласен ли он на это редактирование? Любые вопросы, связанные с биоинженерным вмешательством в человека. Тем не менее рано или поздно мы к этому все-таки придем. Тем более что в некоторых странах это уже делается.
— Как вы видите будущее нейробиологии? Какие интересные тенденции или пути ее развития уже просматриваются? В ближайшие 5–10 лет на этом пути нас ждут какие-то прорывные открытия?
— Я думаю, что да. Активно развивается технология искусственного интеллекта. Раньше из 100 миллиардов нейронов человеческого мозга мы могли слушать два-три нейрона в течение нескольких минут. Сейчас мы можем уже тысячи, десятки тысяч нервных клеток слушать одновременно в течение недель и даже месяцев. Есть одна проблема, которая стояла, а именно — что потом с этими данными делать. Например, 8 терабайт данных с одной мыши человеческими усилиями обработать невозможно. Сейчас появляются системы ИИ, машинного обучения, которые могут делать это быстро, эффективно, и там будет много всяких интересных инсайдов, которые мы до этого не видели и не предполагали.
В первую очередь это будет касаться интерфейсов. Это вся история, связанная с чтением мыслей, управлением мыслями или с тем, чтобы какую-то информацию можно было загружать в мозг.
Второе — это все, что связано с лечением психиатрических заболеваний. Диагностика и лечение психиатрических заболеваний. Например, мы долгое время были на некотором неправильном пути исследования болезни Альцгеймера (амилоидная теория), сейчас она пересматривается в сторону больше ТАО-патологии. На этом пути предполагается, что если больше обращать внимание на какие-то другие механизмы, с этим связанные, то все-таки удастся создать какое-то лекарство. Уже есть точная диагностика, причем ранняя диагностика, а появление лекарства, которое станет замедлять и предотвращать эти процессы, будет, конечно, очень серьезным прорывом, потому что сейчас интерес к этим нейрозаболеваниям выходит на первый план.
Третье — это то, что связано с клеточными технологиями. В частности, выращивание небольших мозгов (органоидов головного мозга). Маленький комок головного мозга, причем вырастить его можно из клеток какого-то конкретного человека. С ним, во-первых, можно проводить соответствующие эксперименты. Во-вторых, развиваются уже технологии по имплантированию этих участков дополнительных мозгов в здоровый или поврежденный мозг. Это протезирование при серьезных повреждениях, в частности при инсультах, и усиление каких-то когнитивных способностей в будущем.
Все это вместе отвечает двум фундаментальным задачам. Первая — практическая, чтобы стать умнее, быстрее, не болеть ничем, лечить психические заболевания. И вторая — фундаментальная. Чтобы ответить на вопрос, кто мы такие, на вопрос сознания, который стоит сейчас на рубеже науки. Сможет ли нейронаука ответить на вопрос, откуда мы вообще беремся, что мы такое и как это все возникает. Я думаю, что XXI век постарается на эти вопросы ответить.
Комментарии 8
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.